


|
|
||
 |
 |
 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Двенадцатый выпуск Библиобзора
![]()
![]()
![]()
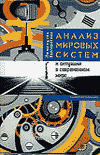 Валлерстайн
И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире Пер. с англ. П.М.Кудюкина.
Под общ. ред. Б.Ю.Кагарлицкого. — СПб.: Университетская книга, 2001.
— с. 416.
Валлерстайн
И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире Пер. с англ. П.М.Кудюкина.
Под общ. ред. Б.Ю.Кагарлицкого. — СПб.: Университетская книга, 2001.
— с. 416.
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ “МИР-СИСТЕМЫ”
Иммануил Валлерстайн — один из основателей в 1960-е годы и по сей день наиболее влиятельный представитель школы «мир-системного анализа», применяемого в ряде научных дисциплин, среди которых: политэкономия и экономическая история, компаративная политология и мировая политика, глобалистика, социальная история (включая современность), социальная прогностика и др. Одна из важных особенностей этой школы состоит в обязательном и акцентированном применении междисциплинарных методов к объекту исследования. Другую особенность и существо “мир-системного подхода” кратко сформулировал В.М. Кулагин: “На фоне заката “официального марксизма” наблюдается ренессанс “истинного” марксистского метода, воплощаемого в теории “мир-системы”, которая концентрирует внимание прежде всего на исследовании отношений развитого Севера и развивающегося Юга в контексте структуры мирового капитализма, но при этом претендует на универсальное толкование всего комплекса мировой политики (выделено мною. — А.Б.) — той самой “мир-системы” <...> Нынешняя система “мир-экономики” (капитализм) переживает окончательный кризис, который должен материализоваться в ближайшее десятилетие. Таким образом, “мир-системщики” считают, что XXI в. несет в себе новое качество глобальной системы, а, следовательно, и новое качество мировой политики” [“Полис”, 2000, №1, с.26].
Рецензируемая книга представляет основную концепцию школы не саму по себе, а на материале некоторых теоретических проблем и практических коллизий современности. Первый раздел книги составлен из работ по методологии исторического (и вообще научного) познания с преимущественным вниманием к марксистской теоретической традиции. Здесь же даны основные разъяснения автора, касающиеся парадигмы «мир-экономики». Во втором разделе собраны в основном статьи и доклады Валлерстайна последних лет, в частности, о весьма актуальной в первой половине 1990-х годов тематике «устойчивого развития», об эволюции государственности, о специфике социально-политического кризиса в начале ХХI в. Материалы объединяются посредством монтажа отдельных работ по тематическому ряду — одно дополняется другим. Естественно, что для анализа разных проблем автору приходится вновь и вновь повторять «азы» своей концепции. Правда, это утомляет читателя, однако указанный прием тоже работает на целостность впечатления и даже помогает лучше освоить внутреннее устройство теории Валлерстайна, ее «механизм».
Несложно выделить основные содержательные «наполнители» валлерстайновских теоретических конструкций. Прежде всего, это признание сущностью экономики капиталистического типа, т.е. капитализма как «мир-системы», ее традиционную ориентацию на получение прибавочной стоимости, на «накопление капитала». Это содержание определено условиями мирового социального разделения труда, выраженного во взаимосвязи «центра» и «периферии». Экономический «центр» эксплуатирует всю мировую «периферию», но иначе и не может быть, ибо данная система сама по себе иерархична и подразумевает отсутствие равенства. Подчеркивание «всемирности» капитализма как экономической системы непосредственно отсылает читателя к постулатам Ф. Броделя и, конечно же, К. Маркса.
Соответственно, время жизни капиталистической “мир-экономики” Валлерстайн отсчитывает от ее зарождения в XVI в. и до ожидаемого автором конца в XXI (аргументация последнего утверждения, на мой взгляд, выглядит звучит довольно сомнительно). «Конец» системы связан с рядом обстоятельств, обусловленных исчерпанием внутренних ресурсов этого типа экономики. Главным среди них является завершенность основных «резервуаров» капиталистического развития — дешевой наемной рабочей силы в мире, свободных для экспансии стран и природной среды как таковой, что означает наступление эры действия объективных экологических ограничений для «накопления капитала».
Обоснование этих тезисов, как обычно, представлено историческим рядом «картинок»-иллюстраций, на первый взгляд кажущихся авторским видением мировой истории капитализма. Валлерстайн выстраивает две взаимодополняющие колонки событий — революции и смены экономических «гегемонов», причем они не слишком удачно объединены. Но все-таки мировая история в этих рядах как-то систематизирована, некоторые любимые автором события («всемирная революция 1968 года») постоянно выходят на передний план, заменяя почти полностью общепризнанных некогда “конкурентов” (Французскую революцию XVIII в., русскую революцию 1917 г., разжалованную из «социалистической» в «национально-освободительную»). Ряд «гегемонов» несколько более убедителен и содержателен, что заставляет вспомнить о подразумеваемой благодарности автора Ф. Броделю.
Вместе с тем остается справедливым известное суждение, что всякая историософская схематика (а Валлерстайн, несомненно, разрабатывает некую историософию, хотя и стыдливо прикрывает ее социолого-экономической терминологией и теориями «циклов» в экономике) тем и хороша, что выбирает собственный исторический материал, отсеивая чуждое и содержательно опасное. Всякая подобная концепция оперирует своей «священной историей», тем самым предполагая существование конкурирующих версий. Отсюда понятно, почему Валлерстайн весьма сурово настроен относительно “полупериферийных” и “периферийных” претензий на историческую инициативу — и даже в историософской сфере. Получается, что зависимое положение большинства стран в “мир-экономике” позволяет «купировать» большую часть капиталистической истории как таковой (а воздействие полу- и полностью “периферии” на «центр» — вообще вне интересов Валлерстайна, кроме как в перспективе прогнозируемой им грядущей перестройки системы). Конечно, как и пристало левому представителю «гегемона» мировой экономической системы, Валлерстайн сочувственно снисходителен ко всей так наз. истории социалистического эксперимента в ХХ в. В книге о ней говорится довольно кратко и оценочно: «индустриализация», «экономика была примитивной» и т.п. Инерция историософской позиции вроде бы нечаянно совпадает с традицией «американского универсализма», «всемирного янки», смотрящего на потуги вне-англосаксонского мира несколько свысока и сквозь пальцы. Свою научную биографию Валлерстайн начинал с исследовательских контактов с Африкой, поэтому не случайно и несколько “миссионерское” отношение нью-йоркского профессора к изучаемому им материалу. Эксцессы такого подхода, хотя и сдерживаются научной добросовестностью и левыми предпочтениями автора, ощутимо влияют на содержание концепции «мир-экономики». А это уже заставляет задуматься об идеологической составляющей в деле по элиминации европоцентризма, на чем гуманист Валлерстайн активно настаивает.
Несмотря на указанные идеологические шероховатости, один из наиболее очевидных и привлекательных эффектов концепции единой капиталистической “мир-экономики” — проявление теоретиком прямого недоверия и иронии ко всякой попытке объяснения исторических событий «в терминах генетически-культурной линии аргументации» (с.41). Согласно Валлерстайну, невозможно методологически ограничиться рассмотрением национально-государственных или национально-культурных общностей, так как их социальная (или экономическая) история отнюдь не определяется происходящим в их же собственных границах. Это — общий признак, а наиболее ярко он выражен в истории “периферийных” государств, где традиционной нормой как раз и является вмешательство иностранцев «посредством войн, подрывных действий и дипломатии» (с.41). Вообще концепция “мир-системы” исключает фетишизацию «национальной истории» как таковой; это просто не нужно, непродуктивно и иллюзорно, если историческое объяснение не основывается на понимании «структурной роли, которую страна играет в мире-экономике в данный момент времени» (с.41). (Попутно замечу, что переводчик и редактор книги почему-то не учли уже пару десятилетий как принятые написания на русском языке терминов “мир-системного” подхода).
Показательно, что в книге собран материал, относящийся большей частью к современности (понимаемой достаточно широко), а потому замечания Броделя относительно слабостей концепции Валлерстайна применительно к докапиталистическим “мир-экономикам” к этим текстам не относятся. Для концептуализации капиталистического же периода мировой истории «всеобщность» подхода Валлерстайна выглядит весьма убедительно, поскольку во всеобщем “центр-периферийном” обмене можно позиционировать историю любой страны. В плане же экономической истории политико-идеологические и прочие компоненты всегда, в общем, согласуются с историей «войн, подрывных действий и дипломатии». Впрочем, в текстах Валлерстайна напрасно искать каких-либо перекличек с многозначительным замечанием Броделя о том, что в целом любая “мир-экономика” управляется извне.
Для отечественного читателя, конечно, существенна советско-российская тема в теории “мир-системы”. В книге Валлерстайна она присутствует, хотя и на втором плане: чаще в функции «подтверждающей иллюстрации», гораздо реже — как предмет беглого, но самостоятельного рассмотрения. “Полупериферийная” Россия, слишком сильная в военном отношении, чтобы быть покоренной “центром” (подобно Африке и Латинской Америке), тем не менее, полностью включена в “мир-экономику” на своем рабочем месте и обречена на сомнительные радости догоняющего развития, т.е. бесконечного бега на месте (поскольку доля мирового «прибавочного продукта» для нее фиксирована). Далее, по Валлерстайну, русские социалистические потуги с 1917 г. только чисто идеологически претендовали на “социалистичность”, а потому неудачи политики Н.С. Хрущева объясняются его истовой верой в «советскую риторику», в чем, напротив, И.В. Сталин отчего-то (?) был никоим образом “не повинен” (с.261). Успехи в индустриализации, относительная изолированность от “мир-экономики”, «меркантилизм», победа во второй мировой войне, Потсдамско-Ялтинская система и т.д. — все это представлено Валлерстайном как производные от гегемонии США, которые вычеркиваются из истории, когда проходит время их выгодности для “хозяина-гегемона”. В будущем России предписана роль сотрудника-клиента объединенной Европы (как поставщика сырья и рынка сбыта) при разделе ею мира с триумвиратом США — Япония — Китай. Суровость и беспристрастность оценок перспектив для нашего Отечества несколько снижена мелькающей в более ранних (до перестройки) работах Валлерстайна квалификацией СССР как экономического гиганта и т.п. Похоже, что этот теоретик изо всех сил старается развивать свою концепцию вместе с историей.
Вообще же в валлерстайновских работах как-то странно обойдена проблема динамики “мир-экономики” с ее революциями и гегемониями — она постулирована, но не рассматривается. Ясно, что страны как-то конкурируют и набирают силы в меркантилистских отчуждениях от экономической зависимости, во временных и/или частичных «уходах» из единой “мир-экономики”. Но вовсе ничего не сказано о том, почему это в истории одним удается, а другим — нет.
В работах, явно более ранних, Валлерстайн вполне определенно высказывался в пользу возможности реализации социалистической перспективы (солидаризируясь с Й. Шумпетером) (с. 27), упоминал о социалистической “мир-системе” (с. 52). Он включал в начавшийся транзит к социализму как некую его часть «приход к власти в существующих государственных структурах социалистических режимов, которые применяют, насколько в силах это сделать, внутри все еще существующего капиталистического мира-экономики социалистические формы и социалистические ценности» (с.72). После горбачевского демонтажа «лагеря социализма», распада СССР и официального отказа новых независимых государств вообще от всякой “социалистичности” оценки Валлерстайна стали уже иными. Он акцентирует и прежде высказывавшийся тезис о невозможности выхода из “мир-системы”, при этом негативно оценивает бывший социализм как не-социализм, псевдосоциализм, повторяя аргументы столь нелюбимых им либералов.
То, что происходило в СССР/России и вокруг нее, в “социалистически ориентированных” странах в 1990-е годы, Валлерстайн понимает как возврат к норме, исторически предвидимый и несущественный процесс. Несущественный, ибо не имеет отношения к логике развития капитализма в виде “мир-системы”. Однако развал «социалистического лагеря» в общем показан автором неоднозначно. Он не столь значим, как это представляется примитивным антикоммунистам или самим коммунистам. Но он и важен — в качестве завершения объединения мировой экономики капитализма. Создалось единое пространство, в котором спор «системных» и «антисистемных» сил пойдет уже в масштабе мира в целом. Более того, по Валлерстайну, эта “победа над социализмом” есть в определенном смысле «начало конца», так как она обозначила исторические пределы капиталистической “мир-системы”.
Данные пределы или, иначе говоря, последнюю историческую форму основных противоречий капитализма, позволяющую говорить о его «окончательном кризисе», Валлерстайн изображает с некоторыми расхождениями в зависимости от текста. Чаще всего он постулирует период «хаоса», из которого неким мистическим образом образуется новый, более эгалитарный и демократический миропорядок. Так, в словесной фигуре «хаоса» в пророчество Валлерстайна входит тема грядущей «революции». О ней автор говорит лишь самую малость не только в силу известных академических шор, о коих мы можем только догадываться, но и в силу той самой мыслительной торопливости, с которой он рассуждает о революциях прошлого.
Особо выделяется в этом отношении трактовка дорогой сердцу Валлерстайна «всемирной революции 1968 года». Очевидно, он все-таки прав в своей основной квалификации: “революция” 1968 г. стала первым явственно антилиберальным выступлением в идеологически либеральной “мир-системе”. Кроме провала стратегии «социального государства» в этот момент истории обнажился и кризис «старых левых», возглавлявших “антисистемные” силы с начала и вплоть до середины ХХ в. Они были обвинены в симбиозе с либерализмом и в «кооптации» в либеральную систему. Все это так. Однако почти полное отсутствие «новых левых» в начале ХХI в. свидельствует о том, что «старость» или «кооптация» “левого движения — ситуационные исторические квалификации. Доведение левизны в “центре” “мир-экономики” до, так сказать, бледно-розовых тонов вовсе не означает, что движения «меньшинств», относительно которых у Валлерстайна есть некие надежды, станут “красными”. Эти надежды понятны и простительны, поскольку исходная оценочная позиция Валлерстайна была задана его личным опытом участия в студенческих выступлениях в центре “революции” 1968 г. в США, т.е. в Колумбийском университете.
Простым идеологическим противоядием могло бы послужить объективное исследование социальной специфики «студенчества», его функций как статусной группы в истории капиталистического общества. Видимо, тогда бы пришлось проводить дистинкции между «кооптированностью» левого движения и социально-манипулятивным созданием политической псевдолевизны, имитацией левизны для достижения полицейски позитивных, охранительных целей. Разумный скептицизм относительно роли государств в “мир-системе” Валлерстайна сменяется его чуть ли не комическим принятием на веру иллюзий рядовых фигурантов заранее запланированных, часто даже напрямую организованных «извне» движений.
Возможно, наиболее привлекательны для читателя, имеющего вкус к критике идеологий, многочисленные тексты Валлерстайна, лишающие исторической респектабельности либерализм. Чрезвычайность, экстраординарность оценки роли либеральной идеологии — как политической стратегии, создавшей геокультуру капиталистической “мир-системы”, — вовсе не означает приятия автором либеральных ценностей. Брутальность классового анализа в данном случае напоминает времена советского Института красной профессуры: вся либеральная идеология, по Валлерстайну, имеет функциональной задачей тривиальную минимализацию неустранимых угроз “мир-системе” со стороны «антисистемных» сил, т.е. угнетенных классов «центра» (в XIX в.) и эксплуатируемых народов “периферии” (в ХХ в.). Соответствующая геокультура, как считает этот теоретик, сложилась в XIX в. и тогда же доказала свою эффективность: либерализм освятил три стратегии в ядре “мир-экономики”: а) постепенное наделение всеобщим избирательным правом; б) развертывание праксиса государства всеобщего благосостояния; в) формирование единого национального сознания. Валлерстайн признает исторический оптимизм и привлекательность идеи прогресса, разделяемой либерализмом, а также утверждает, что к концу XIX в. и консерватизм, и социализм также во многом подпали под прямое влияние либеральных геокультурных ценностей. Практический успех либерализма продолжился в ХХ в., когда В. Вильсон транспонировал либеральный принцип «прав человека» в право народов на самоопределение, а В.И. Ленин, в программе автономного социально-экономического развития “периферийных” государств (социалистическое развитие), создал эквивалент концепции социального государства. Расцвет социального государства и освобождение стран третьего мира завершились к 1970-м годам вместе с началом Б-фазы экономического цикла (спад, по Н. Кондратьеву). Это вызвало крушение либерализма как «основы» капиталистической геокультуры. О последнем возвестила “революция” 1968 г. Разочарование в либерализме, по Валлерстайну, освобождает капитализм и социализм (в качестве конкурирующих идеологических проектов) от давления либеральных ценностей и ставит перед “антисистемными” силами проблему обретения новой, соответствующей эпохе «конца капитализма», идеологии. Впрочем, Валлерстайн считает, что к настоящему времени потерпели крах все идеологии, основывающиеся на идее развития. Предложить же миру нечто «иное» сам он не решается, ограничиваясь довольно мрачными прогнозами на историческую ситуацию 2020-2050 гг.
Реалистичность валлерстайновского восприятия либерализма, при всей его критичности, сомнений вроде бы не вызывает. Сама по себе содержательная традиция подобной критики в неких своих истоках заявлена, например, еще Марксом в ряде известных работ 1840-х годов («К еврейскому вопросу», «Немецкая идеология»). Весьма интересно автор толкует процессы конца 1980-х — начала 1990-х годов («крах социализма») — не как победу, а как поражение либерализма. Подлинный смысл «краха социализма», по Валлерстайну, — в окончательном падении либерализма в качестве идеологии-гегемона (с. 313), ибо у капиталистической “мир-системы” не может быть устойчивой легитимности, если никто не верит ее обещаниям. А последними, «кто верил в обещания либерализма, были коммунистические партии старого стиля в бывшем коммунистическом блоке» (там же). Отныне контроль за «трудящимися массами» может быть только силовой, но сама по себе сила неспособна дать гарантии долгожительства политическим структурам. Нужен подкуп, однако в экономике господствует спад, политика социальных реформ невозможна и т.д., и т.п.
В целом выход в свет первой на русском языке книги Валлерстайна можно только приветствовать, особенно нашим «левым»: она вводит в мыслительный оборот ряд вполне продуктивных идей и методик, не говоря уже о несомненной проблемной актуальности. Правда, досадно, что переводчик, редактор и издатель ограничили свои трудовые усилия минимумом академической культуры и литературного мастерства.
Андрей БАЛЛАЕВ
![]()
![]()
![]()
![]()

Арзаканян М.Ц. Генерал де Голль на пути
к власти. — М.: Прогресс-Традиция, 2001. — 264 c.
ВЕРНЕТСЯ ЛИ ГОЛЛИЗМ К СВОИМ ИСТОКАМ?
В данной книге автор прослеживает вехи политического пути генерала Шарля де Голля, от его участия в первой мировой войне до создания V Республики во Франции. Однако собственно пребывание генерала у власти в качестве президента этой страны М.Ц. Арзаканян не рассматривает, тем самым хронологически очерчивая рамки своего исследования.
Генерал де Голль, безусловно, — одна из наиболее ярких политических фигур в мировой истории теперь уже прошедшего столетия (некоторые опросы западноевропейские общественного мнения выделили его в качестве самого видного политика второй половины ХХ в.). Как бы ни оценивать действия де Голля, следует признать, что генерал всю свою политическую жизнь противостоял основному историческому потоку современного мира с его массовым сознанием, массовой политикой и массовой культурой. На большинство более или менее проницательных людей, с ним сталкивавшихся, он производил впечатление айсберга, девять десятых которого скрыты в морских глубинах. Выходец из старой галло-романской аристократии (род его официально восходит к IX в.), де Голль был едва ли не последним выразителем сугубо личного, точнее, личностного, персоналистского, начала в политике, и в этом качестве его можно решительно противопоставить таким «вождям масс», как Ленин или Гитлер.
Важнейшей чертой де Голля в качестве создателя определенного политического направления было его полнейшее игнорирование какой-либо идеологии Нового времени — от коммунизма с фашизмом, к которым он относился с откровенным презрением, до либеральной демократии, «режима партий», по собственной оценке генерала. Более того, создатель V Республики, впервые за полтора столетия стабилизировавшей политическую конструкцию республиканской Франции, никогда не упоминал ни о каких «принципах 1789 года», как будто бы их и не было, однако всегда подчеркивал связь своей деятельности со старым французским королевством — публично и в книгах и дневниках. В этих последних мы не обнаружим также никаких следов религиозности, хотя генерал всю жизнь считался «практикующим» католиком. Совершенно парадоксальной (с точки зрения идеологических штампов) была, прежде всего, его внешняя политика — просоветская и прокитайская, но одновременно антикоммунистическая; антиамериканская, проарабская и, вместе с тем, антинацистская. И так во всем. Никогда не «игравший по правилам», генерал всегда действовал таким образом, словно доподлинно и точно знал совершенно иные правила, которыми и руководствовался, а затем выходил из игры с поразительным холодом и равнодушием. Де Голля подчеркнуто не любили его союзники, особенно Рузвельт, но враги относились к нему с известным почтением, например, Гиммлер, говоривший о генерале, что знает, кто он такой.
К сожалению, Арзаканян, собравшая большой материал, составившая очень полезный многостраничный библиографический свод и добросовестно описавшая основные этапы политического восхождения де Голля и голлистского движения от «Свободной Франции» до Конституции 1958 г., в конечном счете, не приближает читателя к пониманию того, кто такой генерал де Голль и что есть голлизм. Политологическое определение голлизма, данное Арзаканян, в целом убедительно: «В основе внутриполитических воззрений голлизма лежит идея сильной исполнительной власти. Во внешнеполитических взглядах главной стала идея «национального величия» Франции и независимого, направленного в первую очередь на отстаивание национальных интересов, внешнеполитического курса. В области социально-экономической голлисты выступали с требованиями дирижизма, государственного планирования, реформы отношений между собственниками и трудящимися». Правильно подчеркнуто, что основные положения голлизма как политической доктрины (разумеется, тогда не носившего этого названия) сложились еще до второй мировой войны, что зафиксировано, прежде всего, в книгах самого де Голля. Кстати, эти положения разделял и будущий военный противник генерала маршал А.Ф. Петен (между прочим, как напоминает автор книги, крестный отец сына де Голля Филиппа), вставший на сторону Германии, — эти люди вообще принадлежали к одному кругу.
Дело в том, что голлизм формировался в очень конкретном историко-культурном контексте, определенном главным символом данного движения, — лотарингским крестом. Социальные корни голлизма — в аристократии и крестьянстве, а с буржуазией и интеллигенцией он контактировал мало. Кроме того, не стоит забывать, что Франция со стародавних времен пронизана отношениями компаньонажа и тайных сообществ (не только масонских). С отмеченными традициями голлизм связан самым прямым образом.
В этом смысле книга проф. Н.Н. Молчанова, трижды переиздававшаяся в советские времена (1973, 1986, 1988), сообщает внимательному читателю гораздо больше. Например, Молчанов неоднократно упоминает: генерал полагал, будто наличие в мире сильной Франции оттягивает эсхатологическую развязку. Подтверждением этой убежденности служит описание того, как в 1969 г. только что вышедший в отставку экс-президент де Голль, узнав, что его бывший сподвижник А. Поэр стал председателем Национального собрания и временно взял всю полноту власти в стране, воскликнул: «Как, неужели уже?» Правда, для понимания ситуации надо знать, что Поэр был связан с кругами, ожидавшими «Великого Монарха Франции», и сам имел королевскую генеалогию (подлинную ли — иной вопрос). Досадно, что таких деталей, полезных для исследователя (а работа Арзаканян ориентирована в основном на академические круги), в рецензируемой книге нет.
Впрочем, некоторые весьма любопытные подробности в книге «Генерал де Голль на пути к власти» читатель все-таки найти может. В частности, это описание крайне сложных отношений между генералом и его ближайшим сподвижником еще по Сопротивлению Ж. Сустелем, одним из крупнейших ученых-этнографов того времени. По проблеме Алжира де Голль и Сустель разошлись вплоть до того, что последний был исключен из голлистской партии и встал на сторону «оасовского мятежа». Прав ли был (с точки зрения национальных интересов Франции) де Голль, шедший к власти как сторонник идеи «французского Алжира», а затем от нее отказавшийся, что и привело к распаду французской колониальной системы? Вопрос этот, как ни странно, сегодня важен для нас именно в связи с российским политическим контекстом, и важен со всей очевидностью. С одной стороны, «размен территорий на власть» (нечто подобное случилось при распаде СССР и сегодня происходит в России) всегда несет в себе признаки государственной измены. С другой стороны, Франция, без сомнения, приобрела себе новые (хотя и не столь жесткие) сферы влияния в арабском и вообще мусульманском мире, чем она по сей день активно пользуется. В контексте антиамериканской и — шире — континентальной политики де Голля такие возможности для Франции были чрезвычайно важны. Для нынешней России, по крайней мере, на данный момент, подобный размен (особенно это касается Средней Азии и Кавказа) никаких выгод не несет. Поэтому российские политики, прямо проецировавшие на себя опыт де Голля (генерал А.И. Лебедь с Хасавюртовскими соглашениями), сыграли в новейшей отечественной истории весьма негативную роль.
Существенно и другое. Критика деятельности де Голля с позиций «французского патриотизма», понимаемого при этом крайне широко (не обязательно в ультраправом контексте), ныне имеет место и во Франции. Под пристальным вниманием оказывается не только политический, но и «эзотерический» голлизм. Речь идет, в частности, о распространявшихся в свое время сведениях, будто генерал готовил восстановление монархии во Франции, костяком которой могла бы стать политическая структура V Республики. От этих слухов сам генерал, между прочим, никогда не отмежевывался. Например, Ж. Робен в своей последней книге “Королевство Грааля” (“Le Royaume du Graal”. P.: Gye Tredaniel Еditeur, 1992) развивает мнение о том, что «приход Великого Монарха» (Франции, затем и Европы) сегодня с неизбежностью будет иметь черты «Великой Пародии», а политически окажется способом утверждения англо-американского господства. В этом свете Робен (кстати, непримиримый антигитлерист) рассматривает и создание де Голлем движения «Сражающаяся Франция», опиравшегося на западных союзников. Позицию маршала Петена Робен даже называет «более французской». Примечательно, что в своих прежних книгах данный автор отстаивал и развивал противоположную точку зрения как на «возвращение Великого Монарха», так и на политическую роль де Голля. В контексте сегодняшней глобализации все эти метаморфозы мнений оказываются вполне понятными. В то же время весьма характерен поворот Робена к «политическому исламу». Одна из глав его книги так и называется: «Истинный Великий Махди против фальшивого Великого Монарха».
Показательно в связи со сказанным очень маленькое послесловие Арзаканян, которое, скорее, можно было бы назвать постскриптумом (едва ли не самый интересный пассаж всей книги). Приведу его почти целиком. «В течение последних двух десятилетий голлистское движение было значительно преобразовано под руководством его энергичного лидера нового поколения Жака Ширака. Сегодня он занимает пост Президента республики и называет себя лишь наследником голлизма. Но история часто делает витки и повороты. Кто знает, какой будет политическая ситуация во Франции в ХХI веке? Может быть, и голлизм вернется к своим истокам! Вспомним, что писал де Голль в «Военных мемуарах»: “Все рано или поздно начинается снова. И после того, когда меня самого уже не будет, все, что я сделал, станет началом нового порыва”».
В этом случае и нам — разумеется, исключительно в свете интересов России — полезно было бы значительно внимательнее вглядываться в «истоки» голлизма и его специфику. При всем уважении к де Голлю, быть может, последнему «обособленному человеку» в политике, следовало бы оценивать наследие президента-генерала с точки зрения его пользы или вреда для нашей страны. Я уже упоминал, что сам де Голль занимал уникальную для той поры позицию — сразу и просоветскую, и антикоммунистическую. Существует мнение, что в свое время более тесный союз с голлистской Францией давал руководителям СССР шанс на преодоление марксистской идеологии при продолжении того, что тогда условно называлось «антиимпериалистической борьбой» и, предположительно, даже на победу в холодной войне. Кстати, незадолго до “красного мая” 1968 г. де Голль начал проводить политику «самообеспечения» французского франка, сходную с теми мерами, которые были предприняты в СССР по отношению рубля к доллару сразу после второй мировой войны. Можно предположить, что только приверженность марксизму вынуждала руководителей СССР поддерживать главную антиголлистскую силу — уже тогда фактически «еврокоммунистическую» и «ревизионистскую» ФКП — и помешала в ситуации левого бунта 1968 г. решительно принять сторону президента Франции. Это, в конечно счете, не могло не привести голлистов (уже после де Голля) к разочарованию в новом восточном «почти союзнике». Вовсе не исключено, что в обозримом будущем «новый порыв» голлизма содействовал бы укреплению России, «освободившейся» от раздражавшего генерала коммунизма.
Вместе с тем голлизм в качестве модели внутреннего развития для
нашей страны далеко не безынтересен. Не исключено, что данная политическая модель,
перенесенная с запада евразийского континента на восток, в Россию, с неизбежностью
обрела бы и иное геополитическое содержание. Пока что опыт «русского голлизма»
(выдвижение на выборах 1996 г. кандидатом в президенты РФ генерала Лебедя и
все, что из данной попытки получилось) имел негативные последствия. Однако это
не означает, что отечественный “голлизм” невозможен вообще. Те три составляющих
«голлизма», о которых верно пишет Арзаканян, в руках «русского де Голля» способны
действительно стать «началом нового порыва», безусловно, гораздо более жесткого
по воплощению, чем в сравнительно небольшой по территории и мягкой по климату
европейской Франции. Но его осуществление было бы задумано во имя совсем иных
«подводных сил», противоположных по своим устремлениям европейским. И сложить
с себя власть «русский де Голль» будет вынужден совсем не так, как это сделал
в 1969 г. человек, которого французы называли коннетаблем.
С условиями заказа на приобретение книг издательства "Прогресс-Традиция" можно ознакомиться по адресу progresstrad.narod.ru/order.htm
![]()
![]()
![]()
![]()

Коукер К. Сумерки Запада. М.: МШПИ, 2000. — 272 с.
Вопрос о том, что есть Европа, неизбежно связан с определением границ ее топоса. В этом плане исторический опыт европейского самопознания содержит различные, зачастую взаимоисключающие концепции. Например, средневековые европейцы одним из возможных пределов своего континента на востоке мыслили Австрию (Osterreich; буквальный перевод с немецкого — «Восточное Королевство»). Другой крайностью может считаться идея кардинала Франсуа Руло, что смыслообразующим феноменом для Европы — а, значит, ее синонимом — является христианство, и поэтому Европой следует называть любую территорию мира, бóльшая часть населения которой исповедует веру в Сына Человеческого. Последователь О. Шпенглера современный американский политолог К. Коукер в своей книге “Сумерки Запада”, в согласии с автором “Заката Европы” и “Пессимизма?”, описывает под именем Европы пространство от Соединенных Штатов Америки и Канады до Польши.
Несомненная удача работы Коукера — преодоление рамок традиционных методов политологического исследования посредством многообразного использования культур-антропологического инструментария. Философскими истоками культуры современного Запада Коукер признает творчество Гёте, Гегеля, Ницше и Шпенглера. Сквозь призму такого широкого междисциплинарного подхода автор монографии рассматривает современную политическую ситуацию (состояние Атлантического сообщества после крушения СССР), привлекая для этого различные исторические аналогии. К примеру, он особым образом анализирует “англо-американское воображение” в контексте Атлантической хартии 1941 г. Первоначала и смысл атлантизма Коукер парадоксальным образом связывает с философским наследием Э. Бёрка. Отдельные главы книги посвящены Франции как катализатору “антиамериканской традиции” (в частности, в связи со стремлением этой страны сохранить собственную культуру, чему во многом способствовала знаменитая историческая школа “Анналов”), а также позициям Америки, ее “атлантической идентичности”.
В согласии со взглядами Шпенглера и парадигмой “fin de siecle” Коукер завершает свой анализ пессимистическими прогнозами. Запад не сможет долго существовать, утратив возможность различать видимость и реальность, публично высказанные намерения и фактические действия. Подобный поведенческий диссонанс обусловлен “глубоким творческим кризисом”, при котором Запад более “не способен скоординировать свою политику даже тогда, когда в состоянии согласовать общие принципы” (с.236).
Внешне кризис проявляется в противостоянии Франции и США, в возврате к германской проблеме, в общей “цивилизационной усталости”. Все это, по мысли Коукера, делает современную Европу, вышедшую победительницей из противостояния коммунизму, уязвимой перед грядущими вызовами, как внутренними, так и внешними. Былые успехи Запада были обусловлены его первенством в модернизации. Когда развивался данный процесс, “он был более современным, а, следовательно, более функциональным” (с.231). В свою очередь, его противники были обществами с запаздывающей модернизацией (нацистская Германия) или просто нефункциональными структурами (Советская Россия). Теперь модернизация становится всемирным явлением.
Правда, к своим выводам Коукер делает существенную оговорку: “Было бы неверно, однако, заканчивать книгу на пессимистической ноте <...> будущее <...> можно рассматривать в менее ироническом, в ободряющем свете” (с.242).
Разумеется, указанные Коукером проблемы Запада вполне реальны. Во многом неожиданный распад СССР вызвал здесь шок. Я припоминаю остроумную карикатуру из одной канадской газеты 1990 г. (кажется, “The Chronicle Herald”): лежащий на боку огромных размеров дохлый динозавр с довольно добродушной мордой и надписью “коммунизм”, а рядом с ним — щупленький растерянный уборщик мусора, на комбинезоне которого написано “Европейское Сообщество”. Но история Запада показывает устойчивость его форм и одновременно высокую мобильность, творческие способности к выработке инноваций и возможность адаптации к новым универсальным процессам.
Европа сохранила свое единство и после смены религиозно-аксиологической парадигматики, связанной с замещением языческих верований монотеизмом, и после великого переселения народов, приведшего к изменению этнического состава Запада. Менталитет европейца сохранил свою целостность в ходе кардинальной перекройки политической картины мира и коренных преобразований его экономической сферы.
Однако деструктивные факторы первой и второй мировых войн “бездомного”, по меткому выражению А. Блока, ХХ столетия, конечно, внесли свой вклад в переосмысление Европой самой себя. Впервые после франко-прусской войны (1870 г.) европейские страны вступили в вооруженный конфликт между собой в августе 1914 года (если не принимать во внимание противостояние Болгарии и других балканских стран во время второй балканской войны 1912 г.). Символично, что “августовские пушки” (Б. Такман), открывшие миру “потерянное поколение” (Г. Стайн), прозвучали и как надгробный салют идее прогресса (многовекового атрибута европеизма). Кризис 1914 года проявился еще и в том, что европейские народы разделил какой-то новый барьер, поверх давнишних конфессиональных и даже идеологических противоречий: католики Франции молились, чтобы Господь даровал им победу над их германскими (и австрийскими) собратьями, а немецкие протестанты — над их англо-саксонскими единоверцами (группировка стран «Оси» представляла собой странный экуменический союз протестанской (в целом) Германии, католической Австро-Венгрии, православной Болгарии и мусульманской Турции; такой же разнородностью состава отличалась и противоположная коалиция, включающая США, Англию, Францию, Россию, Италию, Сербию и Японию). Немцы шли в атаку “за родину, за кайзера” против русских, готовых положить живот “за веру, царя и отечество”. Тем самым было расколото гомогенное по многим параметрам европейское пространство.
Катастрофа второй мировой войны также была переосмыслена Европой, подняв на новый уровень творчески продуктивную теологию даже «после Освенцима/Аушвица». Однако до сих пор Европа все еще остается Европой — вот главный итог исторических перипетий прошлого столетия. По сути — несмотря на все пророчества, с ним связанные, — шпенглеровский “фаустовский человек” продолжает пребывать в готовности принимать вызовы истории.
Следует отметить и то, что Коукер не считает Россию Европой. Вот его доводы.
Во-первых, “Россию отличало от Запада отсутствие не столько либеральной традиции, сколько философской” (с.225). Философскую традицию заменяла литературная, наделенная ярко выраженным обличительным характером. Во-вторых, “проблема России — в ее глубокой поглощенности собой: это не универсалистское общество, а контекстуалистское. Русская мысль интересовалась не столько человеческой ситуацией вообще, сколько пониманием России” (с.226). На вербальном уровне контекстуализм проявляется в отсутствии лексических дефиниций. Так, например, слово “правда” означает одновременно и “истину”, и “справедливость”, в то время как в дискурсе западной традиции это отдельные разноуровневые понятия. В-третьих, вслед за Шпенглером, Коукер воспринимает Россию как “псевдоморфоз” (псевдокультурное образование), сочетающий внешние европейские формы с противоречащим им содержанием.
Признавая известную справедливость доводов Коукера, необходимо отметить, что история и культура как Европы, так и России позволяют выдвинуть аргументы как “за”, так и “против” предложенной им точки зрения. В подтверждение его тезиса можно сослаться, например, на парламентскую традицию в России — во-первых, очень позднюю по времени возникновения по сравнению с Европой (Манифест 17 октября 1905 г.), а, во-вторых, неустойчивую и слабую (вспомним хотя бы так наз. третьеиюньский переворот 1907 г.). Разумеется, в памяти выплывают и такие факты, как черта оседлости и запрет лицам нехристианского вероисповедания поступать в высшие учебные заведения. Косвенным свидетельством в пользу точки зрения автора является и то, что фактически ни один крупный западный мыслитель ХХ в. не считал Россию Европой.
Вместе с тем следует учесть, что Россия третьей в Европе после Франции (указ Наполеона III) и Германии (реформа Бисмарка) приняла законодательство, гарантирующее права рабочих. Отмена крепостного права (1861 г.) состоялась здесь на два года раньше отмены рабства в США и не сопровождалась гражданской войной с множественными жертвами (примерно 487 тыс. человек, что превосходит потери этой страны в двух мировых войнах вместе взятых).
Впрочем, читателю понятно, что извечный предмет раздумий — от “русских мальчиков” Ф. Достоевского до философски искушенных Г. Федотова (“Россия, Европа и мы”) и В. Вейдле (“Родная чужбина”) — о месте России в мире, — даже если сопоставить мнения этих и других мэтров с позицией Коукера, в краткой рецензии осветить невозможно.
Если говорить о недостатках монографии Коукера, то в качестве одного из них я с сожалением отмечу излишнюю нагруженность исследования цитатами, затрудняющую восприятие собственного теоретического содержания книги. Но если отвлечься от частностей, можно с уверенностью сказать, что работа Коукера, выполненная на стыке различных гуманитарных дисциплин, интересна не только для политологов, но и для философов и культурологов парадоксальностью выводов и глубиной исследования. Кроме того, отечественный читатель получает новую возможность познакомиться с одним из вариантов видения мировых геополитических проблем, представленных в американской политической науке.
Андрей МАРТЫНОВ
![]()
![]()
![]()
![]()
Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты России. Вехи исторической эволюции. М.: Интеллект, 1998. — 416 с.
ПОПЫТКА ДИАГНОСТИКИ
В истории России (и любого иного «месторазвития») ничто и никто не исчезает бесследно и не появляется заново. Всякая история — «колесо в колесе». В борьбе между теми, кто старается сделать, «как должно быть», и теми, кто хочет оставить все «как есть», всегда, в конечном счете, одерживают верх последние. Ибо «то, как есть», — в данном случае не данность, а сверхданность.
Автор книги «Политические элиты России» применительно к конкретному историко-государственному вопросу — становлению правящего слоя — довольно успешно пробует постичь эту сверхданность. Исходя из результатов анализа, проведенного многими авторами (В. Ключевский, А. Пресняков, П. Милюков, И. Солоневич, Р. Пайпс), О.В. Гаман-Голутвина в качестве постулата принимает сделанный ими вывод о том, что противоречие между потребностями государства в развитии и крайне неблагоприятными возможностями их удовлетворения — прежде всего из-за непрерывных войн и тяжелых природно-климатических условий — определило характер политических режимов России на протяжении всей ее истории. Способом разрешения этого противоречия, по мнению автора, стала мобилизационно-распределительная схема использования ресурсов посредством их максимальной сверхконцентрации и сверхэксплуатации, а также сверхнапряжение всех звеньев общества для его развития в чрезвычайных условиях. Такая мобилизационно-распределительная схема стала основой формирования соответствующего типа развития — мобилизационного (МТР). В подобной ситуации «инструментом организации принуждения выступают “жесткие” (авторитарные и тоталитарные) политические системы и репрессивные политические режимы. При этом на первый план взаимоотношений государства и гражданского общества выходит способность политической системы жесткими методами мобилизовывать различного рода ресурсы. Авторитаризм осуществляет эту функцию посредством мер принуждения; тоталитарная система прибегает к методам всеобъемлющего контроля за всей системой жизнедеятельности общества». Из этой посылки — вывод Гаман-Голутвиной: «При МТР возникает политико-центричный тип общества и идеологии и соответствующий тип формирования правящего слоя» («элиты», как определяет его автор вслед за Г. Моской, В. Парето, Г. Лассуэллом). Иными словами, отношения власти предшествуют отношениям собственности и выступают первичными касательно последних. Этим же обусловлена близость МТР к «азиатскому способу производства».
В отличие от МТР, инновационный тип развития (ИТР) основан на принципе опережающих инвестиций и использовании особых ресурсов, причем в понятие ресурсов входят также и общественные отношения, существующие прежде государства как такового и независимо от него. «Доминирование экономических факторов в системе факторов развития позволяет определить этот тип социальной организации как экономико-центричный», — отмечает Гаман-Голутвина. Соответственный ИТР политический режим — естественно, демократический (я бы уточнил: либеральный, поскольку демократия в ее аристотелевом понимании есть просто власть количественного большинства, а значит, возможна и при МТР).
Автор совершенно справедливо указывает, что МТР — это путь России, ИТР — Европы (вообще Запада). Она приводит яркую цитату из труда Г. Федотова: «Весь процесс исторического развития на Руси стал обратным западноевропейскому: это было развитие от свободы к рабству. Рабство диктовалось не капризом властителей, а новым национальным заданием — созданием империи на скудном экономическом базисе». Далее уже сама Гаман-Голутвина добавляет: «Анализ основных этапов развития российского общества и государства (Киевская Русь, «удельные века», Московское государство, Российская империя, СССР, современная Россия) показывает, что те из этапов русской истории, которые характеризуются как периоды развития, были периодами движения в мобилизационном режиме. Таким был московский период, ознаменовавшийся созданием централизованного государства; такой была восходящая фаза имперского периода; в мобилизационном режиме была осуществлена индустриальная модернизация СССР».
В данном пункте исследования его автор переходит к рассмотрению собственно элиты. «Основанием социальной стратификации в подобной системе выступает не различие имущественного ценза и политических прав, как это происходит в гражданском правовом обществе, а различие обязанностей перед государством <…> Вследствие приоритетности политических факторов в системе факторов развития по мобилизационному типу, доминирования жестких форм политической организации властная элита формируется в недрах государственных структур, что конституирует высший эшелон бюрократии в качестве политической элиты».
Используя в качестве критерия периодизации процесса становления элит в России сам тип правящего слоя, автор выделяет четыре основных периода, «когда традиционная для России модель элитообразования лишь изменяла свой внешний облик, сохранив содержание (выделено мною. — В.К.). 1) Период доминирования боярства — от начала государственности до 1682 г. (отмена местничества). 2) Господство дворянства — 1682-1825 (начало николаевской бюрократической канцелярии). 3) 1825-1917 — период доминирования имперской бюрократии. 4) 1917-1991 — господство советской номенклатуры”. Относительно этой хронологии можно спорить по частностям (на мой взгляд, боярство утрачивало свою роль уже в конце XVI в., а советская номенклатура как сословие складывалась в 1929-1937 гг.), но в целом схема понятна и приемлема.
Если описание происходившего до 1917 г. вполне соответствует ожиданиям читателя, — в нем присутствуют как убедительные наблюдения (отмеченное автором типологическое родство между деятельностью Александра I, причем не только начального периода, но в целом, и декабристов; характеристика бюрократии в качестве целенаправленно создававшегося орудия освобождения крестьян в противовес земледельцам и т.д.), так и ходячие схемы (о «беспомощности» Николая II, негативной роли Григория Распутина и т.д.), — то яркое впечатление производит анализ советского периода «элитообразования», очевидный в логике русской истории, но довольно неожиданный в современном контексте. Вот основной ход мысли Гаман-Голутвиной.
Реальная практика «элитообразования» в СССР осуществлялась не благодаря, а вопреки марксизму. «Известно, что доктрина Маркса и Ленина, выступившая в качестве теоретического обоснования социального конструирования в ходе социалистической революции, была построена на принципиально иных основаниях, чем те, что были использованы на практике в СССР: выборность и сменяемость высших руководителей, партмаксимум (зарплата не выше зарплаты квалифицированного рабочего), отмирание государства, наконец». И далее: «Несмотря на внешнее сходство курса сталинской политики на форсированную модернизацию с программой левой оппозиции, по содержанию сталинская революция не была реализацией курса Троцкого, а во многом предстала контрреволюцией в противовес революции Ленина и Троцкого. Если Троцкий делал упор на разрушительный аспект задач революции («В конечном счете, революция означает окончательный разрыв с азиатчиной, с семнадцатым веком, со Святой Русью, с иконами и тараканами», — считал Троцкий), то содержание сталинской революции не только не было разрывом с прошлым, но по существу означало возвращение к традиционной исторической модели российских модернизаций <…> Таким образом, в начале 1930-х гг. произошло возвратное историческое движение, причем даже не в эпоху империи, а в период Московского государства». Автор в ходе анализа явления сталинизма вновь обращается к свидетельству «христианского социалиcта» Г. Федотова, писавшего, что советский человек это прежде всего человек «старой Москвы» эпохи XV-XVII вв., а потому «Сталин и созидательно строит свою власть на преемстве русских царей и атаманов».
«Представляется обоснованной, — отмечает Гаман-Голутвина, — точка зрения тех современников и исследователей, которые выделяют две фазы сталинской революции: на первом этапе произошло закрепощение рабочего класса и крестьянства все более централизовавшимся сталинским государством (иначе говоря, был реконструирован аналог податных сословий Московского государства); в течение второго этапа аналогичная судьба постигла партию и интеллигенцию, которые стали служилым классом (причем служилый статус приобрел еще более осязаемые черты с введением в 1930-1940-х годах сталинской тарификационной сетки). При этом в ходе второго этапа революции — кровавой чистки 1936-39 гг. — на место уничтоженной большевистской партии пришла новая партия». Автор обоснованно приводит в связи с этим свидетельство Е. Гинзбург о том, что в период сталинизма «принадлежность к коммунистической партии являлась отягчающим обстоятельством, и к 1937 г. мысль об этом уже прочно внедрилась в сознание всех».
Все эти рассуждения и свидетельства вполне вписываются не только в картину сверхданности российской истории, но и в логику развития революции и контрреволюции, как она была представлена, в частности, французским философом и политиком Ж. де Местром. Более того, в такой оптике (здесь Гаман-Голутвина, по понятным причинам, кое-что не договаривает) ленинизм и белое движение, при всем различии их интенций, оказываются явлениями одной субкультуры — интеллигентско-прозападной, а сталинский период и все то, что интеллигенция презрительно называет «совком», глубоко укоренены во многих веках русской истории.
Называя советскую номенклатуру, вслед за последовательными марксистами (и, естественно, противниками «реального социализма») М. Джиласом и М. Восленским, «господствующим классом» советского общества, Гаман-Голутвина отмечает ее абсолютное «бесправие» (в европейском смысле слова). Номенклатурные привилегии носили исключительно временный и распределительный характер, соответствуя привилегиям служилых сословий Московской Руси. «Именно противоречие между правом распоряжения — действительно крайне широким, в отдельные периоды практически неограниченным — и правом владения, вернее, отсутствием такового, стало ключевым противоречием сознания советской номенклатуры, ставшим одним из побудительных мотивов перестройки». Автор находит в истории России аналогичный прецедент, некую «предперестройку» — «Манифест о вольности дворянской» 1762 г. Однако в силу своего очень ограниченного характера и иной внешнеполитической ситуации Манифест не имел тех далеко идущих последствий, какие получила конвертация власти в собственность в 1990-е годы. К написанному Гаман-Голутвиной я бы мог добавить: второй основной причиной краха «сословно-служилого государства» оказалось то, что номенклатура именно из-за своей консервативно-служилой природы была неспособна отказаться от принципиально антиконсервативной, «антислужилой» идеологии марксизма. Это оказалось еще одним, но не менее решающим противоречием «реального социализма».
Совершенно справедлив вывод автора о том, что «реформы 1990-х годов знаменуют трансформацию модели элитообразования более значительную, чем та, которая произошла в 1917 г., когда традиционная модель лишь изменила свой внешний облик, сохранив содержание». Более того, добавлю я, в 1989-1993 гг. фактически проводилась ревизия не только и не столько способа “элитообразования”, сколько всей российской государственно-политической парадигмы, попытка превращения политико- и этико-центричного общества в экономико-центричное, т.е. начались изменения «восточного» пути развития в пользу «западного». Результат, однако, оказался противоположным: вместо провозглашенной модернизации произошла «феодализация» общества, по сути, возвращение к организации XI-XII вв., с поправкой на то, что место родовой аристократии заняли финансовые группировки, чьи интересы, как правило, вообще находятся вне границ России. «Таким образом, — пишет Гаман-Голутвина, — выбор реформаторов эпохи перестройки в пользу казавшейся им суперсовременной модели — ценой разрушения традиции — закономерно обернулся возвратом к наиболее архаичным формам воплощения избранной модели».
К сожалению, выводы, которые делает из сказанного автор, находятся не на высоте яркого описания развития исторических форм прошлого (и недавнего тоже). В чем-то они даже удивляют своей наивностью. Возможно, это обусловлено и неправомерным употреблением понятия элиты, особенно применительно к деятелям позднесоветского периода. Для номенклатуры 1956–1991 гг. характерны, прежде всего, интеллектуальная слабость, связанная с элементарным незнанием каких-либо идеологических парадигм, кроме марксизма, и слабость моральная (бытовая ориентация на Запад при антизападнической риторике). События 1991 г. давали номенклатуре определенный шанс на «инициацию», но она не только эту «инициацию» не выдержала, но и вообще предпочла не принимать. Для Гаман-Голутвиной же «самое поразительное заключается в том, что возвратное движение произошло именно на том этапе, когда впервые в российской истории возникла реальная (а не формальная, как в начале ХХ в.) возможность перехода от мобилизационного типа развития к инновационному. Причем в данном случае совпали возможность и необходимость перехода к инновационной модели развития. Однако этот уникальный исторический шанс был упущен». Наивность исследователя здесь заключается в том, что автор, говоря о внешнем противостоянии России миру в прошлом, почему-то «отмысливает» его применительно к современности. Проект глобализации на самом деле означает всемирную «мобилизацию инновационных обществ», превращение «количества» либерализма в «качество» тоталитаризма. Для России в будущем глобальном обществе место заведомо не приготовлено, в том числе в силу ее «опоздания». И сознание этого должно внести коррективы в прежние представления об идеологическом противостоянии (коммунизма и антикоммунизма, например).
Весьма неправдоподобно выглядит и предложение о некоем «пакте согласия» и «рамочном соглашении» с государством распавшихся по интересам номенклатурных и финансовых групп, которое позволило бы сохранить «историческую и политическую субъектность» страны. На мой взгляд, вопрос следовало бы ставить принципиально иначе. Гаман-Голутвина негативно относится к «союзу крайне правых и крайне левых», о котором говорит применительно к периоду царствования Александрa II. Однако несколько позже К. Леонтьев только в таком союзе увидел залог спасения как монархии, так и российской исторической субъектности. Разумеется, прямые аналогии здесь невозможны, тем более, что сегодняшний «человеческий материал» сочетает в себе, по моему мнению, не лучшие, а худшие черты «тоталитарного» и «потребительского» человека (и в этом смысле «новый человек», о котором «мечтали большевики», действительно родился). Вместе с тем ныне вопрос может стоять только так: или гибель России в процессе «феодализации» с неминуемым поглощением иными крупными образованиями (перспектива «белого движения» времен гражданской войны), или мобилизация, на сей раз последняя и тотальная. Трагизм отечественной ситуации заключается в том, что сегодня такую мобилизацию, по крайней мере, на уровне видимых политических сил, в отличие от 1920-х годов, осуществить некому.
В самом конце рецензии хотел бы обратить внимание на то, что вышедшая в свет четыре года назад книга Гаман-Голутвиной “Политические элиты России” приобретает все больший интерес для читателя, поскольку она уже окружена рядом других публикаций на сходную или смежную тематику, а значит, возможны сопоставления мнений разных авторов.
![]()
![]()
![]()
![]()