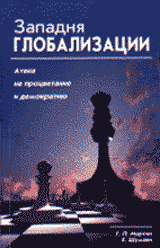|
|
||
 |
 |
 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Декабрьский выпуск Библиобзора посвящен проблемам европейской политики.
![]()
![]()
![]()
Мартин Г.-П., Шуманн Х. Западня глобализации. Атака на процветание и демократию / Пер. с нем. М., Издательский дом "АЛЬПИНА", 2001. — 335 с
ОБЫКНОВЕННЫЙ КАПИТАЛИЗМ
Иногда важно знать, кто говорит. Одно дело, когда "глобализацию" ругает газета "Русский порядок", для которой это мудрёное слово есть всего лишь пристойный заменитель словосочетания "жидомасонский заговор". Совсем другое — когда два солидных, благонамеренных немца (а авторы книги, вне всякого сомнения, люди благонамеренные: Ганс-Петер Мартин, например, соавтор трёх книг о здоровом образе жизни, а Харальд Шуманн написал сочинение о продовольственной проблеме) выражают публичную озабоченность тем же предметом. Для российского интеллигента это означает, что тема легализована и дозволена к обсуждению, в том числе и критическому. Европейцы беспокоятся; значит, можно немножко побеспокоиться и нам.
Однако — о чём же, собственно, они беспокоятся? Открывая книгу, невольно ожидаешь каких-то впечатляющих разоблачений. Злодеяния мировой закулисы — тема жгучая. Хочется знать из первых рук, что и как. Увы! Ничего трогающего за сердце российского обывателя в предлагаемом сочинении не содержится. Страница за страницей идёт перечисление фактов, которые в наших палестинах вот уже десять лет как считаются "нормальными явлениями жизни". Вот какая-то фирма перенесла своё производство в третью страну, чтобы выиграть на разнице в зарплате. Вот другая фирма взяла и сократила пять тысяч рабочих мест, а третья — сделала то же, но в двойном размере, а оставшимся сократили зарплату. Вот кто-то не заплатил налоги, воспользовавшись тем, что у нас называют "схемой". Сокращаются программы медицинской помощи пенсионерам. Интернет-бум лишает рабочих мест сотрудников, привыкших ходить на работу в офис. А шеф МВФ под давлением обстоятельств непреодолимой силы спас мексиканскую валюту, стряся на это дело деньжат со всяких заинтересованных правительств... В современной России все эти проблемы выглядят, мягко говоря, странноватыми. Хочется пожать плечами и спросить: ну и что?
Между тем, это-то и интересно. Наивное возмущение авторов тем, что алчные транснациональные компании, оказывается, "утаивают налоги" (экая новость!), многое объясняет — так же, как и не менее наивное их беспокойство за "рабочие места". Подразумевается, что "рабочие места" должны кем-то "создаваться", а налоги — идти на "социальные нужды". Причём не по циничной российской схеме (оторвать чуток от нефтянки, чтобы подкинуть на кефир бюджетникам, пенсионерам и прочему электорату), а с серьёзной основательностью: на повышение качества муниципального образования, на детские сады для детей с замедленным развитием, на развитие музейного дела и так далее.
Нам трудно себе представить, что авторы выросли именно в таком мире: чистая, сытная, гемютная Германия времён господства умеренной социал-демократии представляется им чем-то само собой разумеющемся. Мир, где существовало понятие "социальной ответственности предпринимателей", а слово "демократия" обозначало довольно неуклюжую, но всё-таки работающую систему, позволяющую гражданам вмешиваться в дела управления. Всё это вместе называлось "социальным государством", или "государством всеобщего благосостояния". Это государство отчаянно критиковали слева, справа, сверху и снизу, но, как теперь выясняется, оно было не таким уж плохим. Похоже, скоро вторую половину XX столетия будут считать золотым веком капитализма. Мы так никогда не жили, и, судя по всему, никогда так жить не будем. Эта возможность закрывается, и, кажется, скоро закроется совсем.
Из этого следует довольно неприятный вывод. Похоже, "глобализация" не является позитивным процессом, то есть возникновением нового явления. Судя по всему, она на четыре пятых представляет собой процесс чисто негативный: речь идёт о разрушении мировой социал-демократической системы. Капитализм устал корчить "человеческое лицо", вот и все дела.
Зря мы не доверяли советским учебникам по политэкономии. Марксизм-то был вполне вменяемым учением, адекватно описывавшим естественное состояние капитализма. Бородатый пророк не учёл всего лишь одной мелочи: возникновения "социалистических государств", само существование которых сильно повлияло на образующуюся картинку. Пока был жив СССР, вечная ему память, "мировая капиталистическая система" была вынуждена прихорашиваться. Наиболее значимые её новшества — включая, кстати, появление пресловутого "среднего класса" — были вызваны элементарной необходимостью прикармливать людишек, чтобы они не подсаживались на советскую пропаганду. Зато теперь стесняться уже нечего. Теперь, конечно, "повсюду — что в Швеции, что в Австрии, что в Испании — действует, по существу, одна и та же программа сокращения затрат на общественные нужды, урезания реальной заработной платы и ликвидации системы социального обеспечения. И везде протест кончается покорностью". Ну да, разумеется, "те, кто управляет глобальными потоками капиталов, снижают уровни заработков своих сотрудников, читай: налогоплательщиков. Заработки как доля национального богатства снижаются по всему миру; противостоять этому давлению в одиночку не способно ни одно государство". Ну, естественно, "цены акций и корпоративные доходы поднимаются двузначными скачками, тогда как заработная плата рабочих и служащих падает. В то же время параллельно с дефицитами национальных бюджетов растет уровень безработицы". И, само собой, "глобальная экономическая интеграция ни в коем случае не является естественным процессом: она сознательно продвигается целенаправленной политикой. Именно правительства и парламенты своими договорами и законодательными актами планомерно устраняли барьер за барьером на пути движения товаров и капиталов через границы". А вы чего ждали, господа-товарищи? Судя по всему, под красивым псевдонимом "глобализации" скрывается наш старый знакомый: империализм, как высшая и последняя стадия капитализма. Который, если кто помнит, и мыслился как глобальное (или, если хотите, интернациональное) состояние, когда вся планета полностью контролируется "классом собственников". Со всеми прилагающимися прелестями, включая — помимо всего прочего — относительное и абсолютное обнищание пролетариата. Немецкие трудящиеся, искренне не понимающие, как это возможно снижать им зарплату (об этом Мартин и Шуманн сообщают с особенным возмущением), или переносить производство туда, где рабочим можно платить сущие гроши, совершенно напрасно думают, что их минет чаша сия.
Некоторые выводы для нас. Пугать Россию "глобализацией" уже поздно: мы давно там, в этом самом "глобализованном мире". Это совершенно не связано с тем, насколько российская экономика интегрирована в мировую, и какое место в последней она занимает. Может быть, и никакого. Важно то, что мы, оказывается, сами того не зная, целиком и полностью приняли логику этого процесса. Россия — это страна "зверского" капитализма, со всеми его свинцовыми мерзостями. Нам, правда, говорили, что так живёт всё человечество. Нас, конечно, обманывали: цивилизованное человечество жило по-другому. Но, похоже, это скоро кончится. Добро пожаловать в XIX век.
Константин КРЫЛОВ
![]()
![]()
![]()
![]()
 Ларри
Зидентоп. Демократия в Европе. Предисловие В.Л. Иноземцева. М., Логос, 2001.
— С. XLIV + 311.
Ларри
Зидентоп. Демократия в Европе. Предисловие В.Л. Иноземцева. М., Логос, 2001.
— С. XLIV + 311.
ПОСЛЕ СВАДЬБЫ
Раньше — в сентиментальную и романтическую эпохи — романы заканчивались свадьбой. Со времен критического реализма и по нашу пору вся история со свадьбы только начинается.
С одной стороны, это хорошо и прогрессивно. Это расставание с демографической архаикой, когда у людей была, собственно, одна задача — обеспечить расширенное воспроизводство вида. Потому-то главной фазой жизни был период брачных игр, а остальное — бездумное "до" и скучное "после". Другое дело мы, современные, индустриальные и "пост", — мы научились жить (а также думать, чувствовать, любить и даже свершать открытья) вне демографического цикла. После свадьбы, иначе говоря.
Но, с другой стороны, стыдливый румянец из-под кружевной вуальки и несмелые вздохи при луне немедля оборачиваются тектоническим столкновением характеров, привычек, намерений, а главное — столкновением представлений о должном. Не говоря уже о бытовых трудностях. Прогресс приносит тяготы, первейшая из которых — отчаянный хлопок себе по лбу. "О чем же я раньше думал?!".
После свадьбы кулаками не машут.
Но пытаются хоть как-то отрегулировать ее последствия.
Взять, к примеру, европейскую интеграцию. Брачные игры были упоительны. Интеграция и вообще слияние воедино — это исконная мечта человечества, это воспоминание о безопасном и беспечальном существовании в материнской утробе. В данном случае — в священной европейской колыбели. Тем более если такой мотив подкреплен десятилетиями межнациональной, но зато внутриотраслевой кооперации, а также естественным желанием накрутить хвост Соединенным Штатам.
Однако даже в безупречном по своему экономическому и политическому расчету союзе стороны могут не сойтись характерами. Тут, кстати, сразу выясняется, что расчеты тоже слегка прихрамывают.
Европе, пишет Ларри Зидентоп, нужен новый федерализм. То есть новый конституционализм и, соответственно, новый политический класс. Общеевропейский. Это очень трудно. Зидентоп приводит в пример становление американского государства. К концу XVIII века выработались все три параметра: конституция, принципы федерализма и, отчасти, класс ответственных умников и говорунов. Парламентариев в полном смысле слова.
Катастрофа превращения Северной Америки в муравейник воюющих штатов была преодолена отчасти в ходе общенациональной политической дискуссии. Но тут есть три момента, делающих американский опыт предметом скорее любования, чем подражания. Во-первых, узок был круг этих федералистов. Во-вторых, они были страшно близки к народу — то есть к народу в тогдашних понятиях. We, People of the United States — это и были, в сущности, они, Гамильтоны, Джефферсоны, Мэдисоны и отважный Джон Хэнкок, первым расписавшийся под Декларацией. И, наконец, в-третьих, все американские штаты времен доконституционной протоплазмы были практически одинаковы. В смысле языка, религии и отношения к ненавистному суверену в лице Британской короны.
Не то Европа. Поди начни сейчас дискуссию о принципах общеевропейского федерализма, о новой общеевропейской конституции. Разорвут в клочки — потому что за каждым свои святые камни.
В июне 2001 г. я участвовал в куда менее масштабной по своему содержанию дискуссии, которая проходила в Берлине. Она называлась "Образование и конкуренция", ежегодный коллоквиум общества имени Альфреда Херрхаузена. Но тема конференции все же смыкалась с проблемой, которую ставит Зидентоп — новый политический класс для Европы. Участники коллоквиума были согласны в том, что важнейшей проблемой для интегрирующейся Европы является воспитание нового поколения элиты.
По мнению выступавших на коллоквиуме, новые европейские элиты должны отвечать следующим требованиям: быть носителями и распространителями знаний, развивать культуру социальных связей, обладать гражданской ответственностью, мотивировать общество на личные достижения, стимулируя таким способом конкуренцию, отвечать на вызовы новых технологий, в том числе и на этические вызовы, свободно ориентироваться в международной проблематике, быть космополитичными и мультикультуральными.
И, наконец, сознавать приоритет этики над экономикой.
Нерешенной и, наверное, неразрешимой проблемой остается этика отбора "кандидатов в элиты". Зидентоп полагает, что эта проблема — камень преткновения на общеевропейском пути. Удастся создать "активное гражданство" как фильтр для отбора достойных — все получится. Нет — значит, перспективы печальны (с.152 — 161).
Образование должно быть в одно и то же время "equal and excellent", что практически нереально. Европа расстается с мифом о том, что развитая система образования может преодолеть разрыв между богатыми и бедными. Реальность показывает, что при отборе, как правило, действует принцип "20-80" (80 процентов студентов элитарных университетов представляют 20 процентов обеспеченных семей, и наоборот). При этом до 10 процентов населения вообще исключено из системы образования. Однако социал-демократизм большинства европейцев — немцев прежде всего — с этим не смирился. Постоянно задается вопрос о справедливости элитного отбора. Немцы даже считают, что отбор надо поставить на государственную ногу через систему контроля за приемом в университеты.
Далее, европейские элиты будущего должны быть солидарными, прежде всего в плане ценностей и целей, а также в плане общей ориентации в происходящем. Требования мультикультурности и космополитизма несколько чрезмерны и даже назойливы.
Наблюдение за ходом коллоквиума убеждало, что Европа, несмотря на всю свою интеграцию, еще не зализала исторические раны. Каждый выступавший извинялся за то, что будет говорить на своем родном языке — и особенно англичане, так как засилье английского является особой темой. Французы и немцы "любят" друг друга так же, как во времена франко-прусской и обеих мировых войн. Никто никому не простил Саарской области и Эльзаса с Лотарингией. Немецкий докладчик с удовольствием процитировал Бисмарка — о том, что прусский школьный учитель обеспечил победу над "наследственным врагом". У Бисмарка речь шла о победе под Садовой, то есть над австрийцами. Но слово "Erbfeind" обычно применяется именно к Франции. Это было очень, очень неполиткорректно! Объединяет немцев и французов старинная нелюбовь к Британии, а всех троих — совершенно оголтелый антиамериканизм.
"Европа никогда еще не была столь разделена национальными культурами, как сегодня", — пишет Зидентоп. Сам он, кстати, терпеть не может французский политический класс. Класс жестокий, сплоченный, оправдывающий любые средства во имя достижения своих целей, и вообще, вся эта европейская интеграция — французская затея.
Сам Зидентоп, судя по написанию фамилии, — имеет немецкие корни. А живет в Англии. За что же ему любить французов, когда тут тебе континентальная блокада, а там — вагон в Компьенском лесу.
Выступая на берлинском коллоквиуме, Энтони Гидденс сказал, что в руководимой им Лондонской школе экономики 60% студентов и более половины преподавателей — иностранцы и это — нарастающая тенденция. Конечно, это не прививка космополитизма — почти все исламские фундаменталисты и прочие националисты в свое время пооканчивали лучшие европейские и американские университеты.
Вот здесь самое время перейти еще к одному аспекту книги Зидентопа, чрезвычайно важному именно сейчас. Он пишет, что в основе современной западной государственности лежат именно христианские ценности равенства и морального универсализма. Больше того — именно эти ценности создают первичную, базовую "социальную метароль" свободного индивида, по отношению к которой все остальные роли вторичны — либо порождаются ею, либо отвергаются как несоответствующие. И далее самое главное. Государство, по Зидентопу, есть такое устройство, в котором осуществление этой базовой метароли, грубо говоря, обеспечено и гарантировано. Иначе это не государство, а нечто неясное. Какой-то другой общественный строй, негосударственный. Это звучит непривычно. Но я бы всем рекомендовал привыкать именно к такому звучанию этой проблемы.
Государство есть учреждение свободных индивидов — genitivus objectivus и genitivus subjectivus одновременно — то есть они учреждают друг друга. Поэтому, по Зидентопу, есть ситуации, когда о государстве говорить вообще бессмысленно. Например, — в случае "исламского государства" (стр. 104). Добавлю от себя, — и в случае "советского социалистического государства".
Вполне поэтому возможно, полагает Зидентоп, что исламский фундаментализм — это вовсе не протест против экспансии западных политических, экономических и культурных моделей. Это протест против христианства, которое просвечивает за либерализмом. Поскольку либерализм есть секуляризированная версия христианства, своего рода "постхристианство" (это уже не Зидентоп, это я придумал — Д.Д.).
В 2000 году Ларри Зидентоп написал, что историческая роль Европы и вообще Запада состоит в защите либеральных и христианских основ в условиях "мульткультурализма". После 11 сентября 2001 года эти слова стали пророческими. Боюсь только, что это пророчество будет исполняться с большим превышением, и перед Европой (шире — перед либеральным миром) встанет новая задача — сохранить собственную аутентичность в условиях, мягко говоря, нарастающей межкультурной напряженности.
Будет ли это сделать легче врозь или вместе — так вопрос не стоит. Интеграция вроде бы уже состоялась. Культурная многомерность Европы и ее неготовность к федерализму усложнит задачу солидарного противостояния "басурманам". Но то же самое ее качество может вообще свести такое противостояние на нет, превратить его в цепь компромиссов и договоренностей, растянутых от Анкары до Вашингтона.
Денис ДРАГУНСКИЙ
![]()
![]()
![]()
![]()
Кин Дж. Демократия и гражданское общество / Пер. с англ. — М.: Прогресс-Традиция, 2001. — 400 с.
Книга профессора Вестминстерского университета, директора Центра изучения демократии (Лондон) Джона Кина была издана в 1988 г., переиздана в 1998 г. и вот уже переведена и опубликована на русском. По словам автора, она — вместе с продолжением "Civil Society and the State" (1988) — встретила теплый прием, породила множество рецензий, переводов, интервью и даже пиратских изданий. Более того, обе книги стали считаться "классикой" в своей области, предвосхитив то внимание к теме гражданского общества, которое захлестнуло европейцев в конце минувшего века. Как пишет Кин во Введении к изданию 1998 г., если "еще не так давно, всего десять лет назад, сам этот термин ["гражданское общество"] казался непривычным на слух, старомодным и даже воспринимался в определенных кругах с цинизмом и враждебностью…, [то] затем в европейском регионе и других местах термин "гражданское общество" начал входить в моду и столь часто слетал теперь с губ политиков, представителей крупного бизнеса, преподавателей, ученых… и даже простых граждан, что, как справедливо отметил беспристрастный обозреватель "Times Literary Supplement", "само это выражение стало своеобразным символом девяностых годов"". Кин убежден, что его книги внесли свой вклад в возвращение понятия "гражданское общество" с книжных полок, и именно поэтому их судьба оказалась столь удачной.
Признаюсь, для меня было неожиданным узнать, что и для европейцев тема гражданского общества — чуть ли не открытие последнего пятнадцатилетия. Обилие разговоров о построении гражданского общества у нас в России само собой рождает впечатление, что уж у них-то в Европе такое общество давно построено, и если так, то, чем вызван новый всплеск внимания к этой теме, непонятно. Во всяком случае вступительные слова Кина создают нечто вроде интриги, которая заставляет читать книгу с неподдельным интересом и которая изрядно усиливается после того, как узнаешь о политических пристрастиях автора. Оказывается, что Кин — социалист и вовсе не намерен скрывать этого. Более того, он готов даже признать себя левым, правда при условии "коперниканского переворота в понимании различия между левыми и правыми". Но если автор — социалист и левый, то при чем тут гражданское общество? Не воплощает ли живое противоречие социалист, который зовет к ограничению государства и расширению гражданского общества?
Каких бы вопросов ни касался Кин на страницах своей книги (а среди них: границы деятельности государства, занятость в посткапиталистическом обществе, настоящее и будущее социалистических партий, опасность диктатуры и упадок парламентаризма), красной нитью сквозь нее проходит убеждение автора, что жизнеспособность социалистической идеи напрямую зависит от коренного пересмотра определения социализма. Социализм, утверждает Кин, должен стать синонимом демократизации общества и государства, требования большей демократии, создания дифференцированной и плюралистичной системы власти. Социалистам следует решительно пересмотреть отношения между государством и гражданским обществом, возглавив борьбу за ужесточение границ деятельности первого и одновременно за расширение сферы автономной жизни второго. Социалисты-демократы не вправе игнорировать традиционные либеральные ценности (такие как свобода выбора, права человека, свобода от государственной бюрократии) и должны со всей отчетливостью понимать, что от того, кто унаследует старый европейский язык свободы, равенства и братства, зависит будущее социалистической идеи.
Но тогда вопрос: если социализм и демократия одно и то же, если чем больше демократии и свободы, тем больше социализма и наоборот, то с чего вдруг Кин так упорно продолжает называть себя социалистом, а не скажем демократом или даже либералом? Что вообще осталось в его взглядах от социалистической идеи? Можно, конечно можно, переопределить социализм таким образом, что он перестанет отличаться от демократии и/или либерализма, — но не будет ли такое переопределение замаскированным признанием несостоятельности социалистической идеи?
Если взглянуть на книгу глазами либерала, в ней, я полагаю, нет ничего принципиально нового, за исключением, быть может, идеи "общества после полной занятости" (подробнее ниже). Да и сам Кин не скрывает вторичности своих взглядов, претендуя лишь на то, что он возрождает хорошо забытое старое. Отсюда, в частности, его высокая оценка Алексиса де Токвиля и других мыслителей либерально-демократического толка. Тем не менее, полного отождествления с Токвилем (и уж тем более с либерализмом) Кин себе, конечно же, не позволяет: "Токвиль несомненно недооценивает демократический потенциал сопротивления рабочих всевластию капиталистической обрабатывающей промышленности", "не видит возможности социалистического [курсив автора] гражданского общества…, над которым больше не властвуют капиталистические предприятия, патриархальные семьи и другие недемократические формы ассоциации".
Последние слова заслуживают того, чтобы остановиться на них более подробно. В них Кин частично приоткрывает тайну своего социализма: возрождая идею гражданского общества, он подразумевает все же, что общество обществу рознь и отнюдь не всякое гражданское общество может устроить социалиста (иначе он и впрямь стал бы неотличим от демократа и/или либерала). Социалиста может устроить лишь "социалистическое" гражданское общество — именно такое, в котором (выражаясь чуть более решительно) свергнуто иго капитала. Правда, Кин пока не уточняет, в каком смысле капитал властвует над гражданским обществом и что нужно сделать для того, чтобы наступило долгожданное освобождение, однако уже сказанного достаточно, чтобы зародилось некоторое подозрение: не пытается ли Кин своими разговорами о гражданском обществе просто-напросто замаскировать традиционное для социалистов отрицание частной собственности, отложив борьбу с ней до более благоприятных для социалистической идеи времен? Вот и в оценке Маркса он опять же возвращается к той же мысли: "Маркс никогда не задумывался над возможностью обеспечиваемого государством социалистического [курсив снова автора] гражданского общества, в котором отсутствовало бы господство товарного производства и обмена". Ну и ну: гражданское общество, в котором нет товарного производства и обмена? Или есть, но они не господствуют, не властвуют?
Впрочем, высказанное подозрение скорее всего преувеличено. Кин решительно против "государственно-административного социализма" (как в советском, так и в западном — "кейнсианском" — варианте) и стремится найти золотую середину между "кейнсианским обществом всеобщего благоденствия" и неоконсервативной моделью общества. Помимо упоминавшихся выше демократизации, плюрализации и т. п. эта середина включает также идею "общества после полной занятости": вместо того чтобы бороться за полную занятость, следует (раз уж эта борьба обречена на неуспех) бороться за создание таких условий, при которых человек мог бы свободно решать, наниматься ему на работу или не наниматься. Подразумевается, что над человеком не должна тяготеть необходимость устраиваться на работу по найму и он должен иметь возможность свободного выбора между наемным и другими видами труда (включая ведение домашнего хозяйства). На протяжении сорока страниц Кин с разных сторон рассматривает эту идею (по ходу обсуждения книг Андре Горца "Прощай, пролетариат" (1980) и "Дороги в рай" (1983)), и это говорит о том, что "общество после полной занятости" — важнейшая составная часть пересмотренного по Кину определения социализма. И понятно почему идея "после полной занятости" привлекает и даже завораживает внимание Кина: в ней сходятся и любовно уживаются две другие столь близкие ему идеи — гражданского общества и социализма. В конечном счете "общество после полной занятости" — это и есть то "социалистическое гражданское общество", которое, как утверждает Кин, просмотрели Токвиль и Маркс. Оно потому гражданское, что в нем государство не подавляет и не подменяет самодеятельность граждан, и оно потому социалистическое, что в нем нет "тирании наемного труда". В итоге Кин раскрывает-таки тайну своего социализма: как и прочие социалисты, он борется за освобождение от ига капитала, хотя и не выступает за отмену частной собственности. Естественно, что само это освобождение мыслится иначе — не как отрицание, а как возможность свободного выбора, впрягаться в "ярмо капитала" или нет.
Я не берусь судить об осуществимости идеи "общества после полной занятости", хотя должен признаться, что она мне определенно нравится. По крайней мере в личном плане: жить и быть вне необходимости работать по найму — это как раз то, за что я, как говорится, двумя руками. Да и с либеральной точки зрения в ней нет ничего предосудительного, напротив — она лишь применяет идею свободы выбора к вопросам труда и занятости. Однако в социальном плане я вижу в этой идее скрытую опасность: отсутствие (в масштабах общества) необходимости работать по найму — далеко не так безобидно, как может показаться на первый взгляд. Труд, который невозможен без найма (например, труд тех же рабочих на промышленных предприятиях или программистов в компьютерных фирмах), был и, я полагаю, останется основным видом труда в любом сколь угодно развитом гражданском обществе, и мне трудно себе представить, чем будут заниматься люди, если их к этому труду ничего не побуждает. Да и захотят ли они себя чем-либо занимать? Не превратятся ли в толпу праздно шатающихся обывателей, требующих хлеба и зрелищ? Кин почему-то уверен, что если предоставить людям возможность труда не по найму, то они этой возможностью непременно воспользуются — в высшей степени сомнительная уверенность, основывающаяся на идеализированном образе человека. Если же потребовать необходимости, которая заставляла бы людей работать не по найму, то что останется от той долгожданной свободы, за которую с таким упоением ратует Кин? Мы лишь поменяем шило на мыло: "тирания наемного труда" сменится "тиранией ненаемного".
Книга Джона Кина — безусловно важное и заслуживающее внимание произведение, которое свидетельствует о жизнеспособности социалистической идеи и о ее способности видоизменяться и впитывать в себя когда-то совершенно чуждые ей ценности. Она легко читается, содержит немало неожиданных моментов, не останавливается перед смелыми и решительными выводами. В целом это еще один шаг к сближению социализма и либерализма, к примирению идей справедливости и свободы.
Вячеслав ВОЛЬНОВ (г. Санкт-Петербург)
![]()
![]()
![]()
![]()
 Янов А.Л. Россия: у истоков трагедии.
1462-1584. Заметки о природе и происхождении русской государственности.
— М.: Прогресс — Традиция, 2001. — 559 с.
Янов А.Л. Россия: у истоков трагедии.
1462-1584. Заметки о природе и происхождении русской государственности.
— М.: Прогресс — Традиция, 2001. — 559 с.
"ЕВРОПА ВНУТРИ РОССИИ"?
Участники идеологических споров часто аргументируют свои позиции ссылками на историю. Предполагается, что такие аргументы самоочевидны: что можно возразить против усвоенных из школьных учебников фактов? Вместе с тем, хорошо известно, что история пишется, а порой и переписывается, отражая меняющиеся перипетии сегодняшнего дня. Ведь важен не факт, а его интерпретация, увязывающая череду событий в единое повествование, именуемое историей. Поэтому если, зная об этом, мы все же с серьезным видом прибегаем к историческим аргументам (как пелось, в старой студенческой песне, "на то она история, та самая, которая ни слова, ни полслова не соврет"), это значит, что мы рассчитываем на очевидность подразумеваемого нами нарратива для собеседников. Поэтому когда появляются работы, предлагающие новое прочтение привычного исторического нарратива — это всегда событие не только для науки, но, прежде всего, — для общественной мысли. Представляется, что новая книга известного историка А.Л.Янова — одно из таких событий. Тем более что написана она в жанре исторического и историографического эссе, а не строгого научного трактата, и адресована широкому кругу читателей.
Книга "Россия: у истоков трагедии" — опровержение того, что ее автор называет "Большим Стереотипом" отечественной и западной историографии: представления, что у России должна быть непременно одна политическая традиция, определяющая ее исторический путь и будущую перспективу. Этому стереотипу, по мнению Янова, равно привержены и славянофилы, и западники. В действительности же "у России не одна, а две, одинаково древние и легитимные политические традиции. Европейская (с ее гарантиями свободы, с конституционными ограничениями власти, с политической терпимостью и отрицанием государственного патернализма). И патерналистская (с ее провозглашением исключительности России, с государственной идеологией, с мечтой о сверхдержавности и о "мессианском величии и призвании")" (с.31). Однако поскольку в существовании второй никто не сомневается, пафос книги направлен именно на доказательство существования первой.
По мысли Янова, корни обеих политических традиций прослеживаются уже в двух типах властных отношений в Киевской Руси — "самодержавной, холопской", реализовывавшейся в отношении князя-суверена к дворцовым служащим и кабальным людям, пахавшим княжеский домен, и "договорной", проявлявшейся во "вполне европейском отношении князя-воителя к своим вольным дружинникам и боярам-советникам". Отношение это, по мнению автора, уходило корнями в древний обычай "свободного отъезда" дружинников от князя, служивший им гарантией от княжеского произвола (с.32-34). (Здесь обращает на себя внимание терминология, о которой более подробно будет сказано ниже). Таким образом, двойственность политических традиций присутствовала с самого начала русской государственности (представляется, что то же самое можно было бы сказать о любом из средневековых европейских государств). Согласно концепции Янова, эта двойственность не исчезла с наступлением татаро-монгольского ига: напротив, "европейское" начало даже укрепилось. Главным аргументом автора является яркое описание периода царствования Ивана III, которое Янов называет "европейским столетием России" ("европейским" — потому, что это было "время, когда самодержавия еще не было" и "когда Россия развивалась в рамках европейской парадигмы" (с.52)). К сожалению, достижениям этого периода, когда объединившаяся Россия демонстрировала настоящий экономический бум и, опережая Европу, встала на путь Реформации (так интерпретируется движение нестяжателей), создала земское самоуправление и суд присяжных и уверенно двигалась в сторону сословной монархии, был положен конец "самодержавной революцией" Ивана IV.
Возможно, наибольший интерес в книге представляют даже не живо и со знанием дела описанные исторические перипетии периода, вынесенного в заголовок, а анализ русской и советской историографии, которая внесла существенный вклад в формирование мифа о неевропейском характере России (в том числе, и оценками правлений Ивана Грозного и его деда). Ведь перед нами работа не столько об истории XIV-XV вв., сколько о той роли, которую сложившийся нарратив играет в формировании образа России в нашем историческом сознании, и о том, как и почему сложился этот образ. Главное, против чего возражает Янов, — это тезис о том, что европейская модель развития — "не для нас" в силу того, что у нас "не та родословная". Его аргументы равно направлены и против националистов, которые думают, что "мы лучше Европы", и против "разочарованных либералов", полагающих, что "мы хуже" (с.188). "Вопреки старому "канону", Европа — внутри России", — доказывает автор. И хотя "патерналистская, холопская" традиция тоже с нами, ее победа "вовсе не была запрограммирована фатально" (с.191). Борьба двух традиций, по Янову, не завершена: она продолжается взмахами гигантского маятника "европейских" и "неевропейских" исторических циклов, неизменно заканчивавшихся трагедией. Его книга — это обращенный к культурной элите призыв осознать эту двойственность и "маргинализовать холопскую, патерналистскую традицию", отказавшись от убеждения в "особом" и принципиально "неевропейском" призвании России.
Приведенное здесь — лишь краткий и приблизительный пересказ предложенной А.Л.Яновым концепции русской истории, которая неизбежно должна спровоцировать споры и опровержения. Возможно, именно так она и была задумана — как повод к дискуссии. Оценить правомерность данных автором оценок событий XIV-XV вв. и проводимых параллелей между европейской и российской историей этого периода — задача специалистов-историков. Отмечу лишь, что одной из причин неизбежных возражений является размытость и, если так можно выразиться, размашистость используемых в работе терминов. Ключевым в концепции Янова оказывается тезис о наличии в истории России "европейской" традиции: этот термин не столько определяется, сколько поясняется нанизываемыми друг на друга смысловыми ассоциациями. Европейская традиция связана с договорным началом организации власти, с ограничениями произвола (через сословное представительство, самоуправление, суды присяжных, в конце концов — конституцию), с отношением к территории страны как к "отчине" (объекту публичного властвования), а не "вотчине" (личной собственности) и др.). Наличие всех этих элементов в истории XIV-XV вв. рассматривается как доказательство "европейскости" России. Возникает вопрос: а почему? Потому что они были и в истории европейских стран (каких? Европа — понятие протяженное)? Но ведь и в средневековой Европе "договорные" начала переплетались с "патернализмом". Потому что в конечном итоге они возобладали? Но значит ли это, что страны Европы были уже в средние века запрограммированы на такой путь развития? Эти вопросы не оговариваются: "европейская традиция" — это пучок взаимосвязанных, но не всегда отчетливо различающихся смыслов (заметим, что у читателя могут возникать и другие смысловые коннотации).
Очевидно, что Янов использует понятие "европейский" не в географическом и даже не в конкретно-историческом смысле; "Европа" для него — обозначение определенной тенденции политического развития. Но не только: ведь обсуждение двойственности политической традиции России необходимо для легитимации ее европейской идентичности ("Европа — внутри России"). Осознание сходства путей развития России и Европы, по замыслу автора, должно "маргинализовать" миф об "особом пути", мешающий нам развиваться как "нормальной европейской стране". Но только ли политическими традициями определяется цивилизационная самоидентификация? По-видимому, мы пока плохо представляем себе законы, по которым общественное сознание оценивает сходства и различия, конструируя образы "мы" и "они". Трудно сказать, какую роль здесь играет политика, а какую — экономика, религия, язык, культура.
Очевидно одно: немалая роль в конструировании идентичности принадлежит истории. И в этом смысле заявка на преодоление Большого Стереотипа не может быть оставлена без внимания. Нам свойственно вглядываться в историю в поисках ответов на проблемы настоящего. Быть может, символично, что книга Янова, писавшаяся давно (в основе ее — докторская диссертация, написанная, но так и не защищенная, и монография, изданная в начале 1980-х в США), увидела свет осенью этого года, на фоне событий, побудивших российских правителей решительно завить о своей солидарности с Западом. Будущее покажет, насколько далеко удастся зайти "русским европейцам" на этот раз.
Ольга МАЛИНОВА
![]()
![]()
![]()
![]()
 Юнгер
Ф.Г. Ницше / Пер. с нем. А.В.Михайловского. М. "Праксис", 2001. — 256 с.
Юнгер
Ф.Г. Ницше / Пер. с нем. А.В.Михайловского. М. "Праксис", 2001. — 256 с.
Фигура Ницше как политического мыслителя в отечественном культурном пространстве практически еще не очерчена и не определена. Для нас привычнее Ницше-философ (1), в крайнем случае, профет, но не идеолог, — хотя в западной литературе о Ницше существуют прочтения его текстов как текстов политических (достаточно упомянуть книгу А. Боймлера "Ницше, философ и политик", увидевшую свет в Лейпциге в 1931 г.), впрочем, несовместимые с "нелепыми мнениями, низводящими Ницше до уровня мыслительного pendant какого-нибудь Бисмарка или Гитлера" (А. Михайловский). Публикация книги Фридриха Георга Юнгера "Ницше", осуществленная в 2001 г. московской издательской группой "Праксис" (сама книга вышла по-немецки более полувека назад, в 1949 г.) в серии "Идеологии", представляет собой попытку закрепить образ Ницше — в русском ментальном пространстве посредством книги немецкого автора — именно как идеолога, как творца и транслятора идей.
Таким образом, перед нами — не просто еще одна реконструкция учения Ницше, подобно ставшим уже классическими трудам К. Ясперса и М. Хайдеггера. Перед нами — книга, в которой собственно система мысли Ницше — "система мысли, в начале которой стоит смерть Бога, в центре — вытекающий из нее нигилизм, а в конце — самопреодоление нигилизма в вечном возвращении" (слова К. Лёвита, с. 34) — является чем-то вроде метафизического фундамента для построения идеологического здания. Оговорюсь сразу же, что это идеологическое здание, в данном случае здание "консервативной революции" как интеллектуальной и политической практики, к моменту написания книги о Ницше было уже построено (термин "консервативная революция" был впервые употреблен в 1921 г. Томасом Манном, а автор наиболее важного труда, посвященного этому феномену, Армин Мёлер, ограничивает его хронологические рамки 1918 — 1932 годами (2)) — и отчасти уже обветшало. Книга о Ницше — это попытка метафизического фундирования уже свершившегося идеологического события, и в этом, пожалуй, и заключается немалая часть ее прелести и ценности.
Дескрипция основных идеологем "консервативной революции" в русской гуманитарной науке, вместе с интересом к самому феномену — явление буквально последних лет (автор предисловия к переводу и переводчик книги Юнгера А. Михайловский, безусловно, хорошо владеющий темой, называет только одно монографическое исследование на русском языке, посвященное данной теме — работу О. Пленкова (3)). Поэтому совершенно логично, что во вступительной статье, носящей заманчивое для читателя название "Поэт возвращения" А. Михайловский пытается, и пытается успешно, приблизить читателя к явлению консервативной революции, очерчивая основной круг если не ее понятий, то ее идеологем и мифологем (ниже будет отмечено, сколь важно для творцов "консервативной революции" различие между "понятием" и образом-мифом, образом-гештальтом). Консервативная революция — это не "реакция". Гуго фон Гофмансталь в своей программной речи "Литература как духовное пространство нации" (1927 г.) определяет основные интенции консервативной революции как "искание уз, сменяющее искание свободы, и искание целостности, единства, избегающее всех делений и расщеплений" (с.18). В этой речи мы, собственно, и встречаем впервые адекватное самоописание феномена "консервативной революции" как явления, во-первых, исторического, во-вторых, связанного с определенной культурной национальной традицией (а именно германской), в третьих же, в самих своих изначальных определениях деконструирующего основные понятия либерально-демократической идеологии: понятия свободы и понятия индивида как субъекта социального действия.
Огромную роль в возникновении нового немецкого консерватизма (и в самодистинкции его по отношению не только к либерализму, но и к консерватизму старому) сыграла Первая мировая война. Поражение в войне заставило переосмыслить понятие победы: "Война — наш отец, — писал брат Фридриха Георга, Эрнст Юнгер, чьи работы в течение недавнего времени стали уже известны русскому читателю (4) — он зачал нас, новое племя, в раскаленном чреве боевых окопов <....> Это юношество в самых страшных ландшафтах мира завоевало себе знание того, что старые пути пройдены до конца и его ждут новые пути" (c.12). Духовная ситуация, когда исторический проигрыш открыл, как казалось, немыслимую в случае победы возможность переосмыслить европейскую историю и подвести ей итог, требовала адекватного языка описания. Отсюда становилось ясно, что основные категории консервативной революции конструировались как оппозиция категориям традиционного политического дискурса: категориям войны, власти и государства, существовавшим ранее лишь в конституции сознания либо как моральные, либо как правовые феномены, противопоставляются категории войны, власти и государства как феномены онтологические, как формы проявления жизни посредством языка. Война — не преступление против гуманности, война есть непосредственное выражение жизни; государство "признается жесточайшей властью, накладывающей свои формы" (с.13). Динамический ход жизни кристаллизует подлинный смысл войны — за "незримый град", невидимый рейх, превосходящий все существующие национальные и государственные формы. Изначально определяя себя как движение к немецкому национальному, народному государству (Volk-Nation), новый национализм стремился переосмыслить сами понятия нации и государства.
Отсюда ясно, какую большую роль для идеологов консервативной революции, которыми, вне всякого сомнения, являлись братья Юнгеры, сыграла философия Ницше: "Ницше предстает как символическая фигура, отсылающая к осознанию ситуации, где старые ценности уже уничтожены, а новые еще не появились" (с.22). Этот аксиологический провал и пытается восполнить Фридрих Георг (да и Эрнст) Юнгер, пытаясь конституировать новые ценности на языке и посредством ницшеанских символов и идей, переплавленных в модели нового консерватизма. Без учета этого момента структура, круг проблем, стилистика книги Фридриха Георга Юнгера о Ницше вряд ли будет ясна до конца. Взять, скажем, оглавление книги. Если названия первой, второй, четвертой и пятой глав — "Рождение трагедии", "Заратустра", "Воля к власти", "Антихрист" - воспринимаются как простое перечисление работ Ницше, естественное для трудов монографического плана, а название шестой и седьмой — "Вечное возвращение" и "Сверхчеловек" — как описание важных ницшевских концептов (хотя уже на этом этапе неясно, почему бы их не поместить, скажем, в разделы "Заратустра" или "Воля к власти"), то заголовки главы третьей — "Гёльдерлин и Ницше", и особенно заключительных, очень важных в композиции книги восьмой и девятой глав — "Актер" и "Масса" — кажутся почти неуместными. Глава о Гёльдерлине помещена точно посередине глав, повествующих о конкретных работах, а концепты "актера" и особенно "массы" воспринимаются как неимманентные самому Ницше.
Мы видим, что Юнгер в самой композиции книги деформирует, вскрывает, взламывает привычный аналитический ряд, смешивая в едином пространстве текста те пласты, которые традиционно воспринимаются как различные — хронологический и концептуальный. Однако смешение это, как, к слову, и мнимая алогичность композиции, воспринимается при чтении вполне естественно. Дело в том, что средоточием самого текста Юнгера о Ницше (впрочем, и большинства текстов самого Ницше), его клеем становится язык повествования. Параллельное прочтение текстов Ницше с работой Юнгера показывает, насколько язык описания (Юнгера) близок языку предмета описания (Ницше), при учете того, что Юнгер практически всегда стремится избегать прямого цитирования, это всегда Ницше "своими словами". "Язык есть человек, человек есть язык. Нет ничего более духовного, чем это слово, чем это предложение, в котором уничтожена всякая каузальность, снято всякое отношение средств и целей. <...> Язык своим ритмом и гармонией столь число отделяется от молчания, что причиняет слушающему боль, раня нежнейшей остротой своих контуров. Ибо язык <...> есть то же, что и тело, и более не может быть средством общения" (c.87). Мы видим, что стилистика здесь заменяет аргументацию, и это вполне понятно для присущего большинству текстов представителей консервативной революции отторжения традиционной дискурсивности.
Основные интуиции Ницше — перспективизм, становление, вечное возвращение, современный Ницше бюргерский мир как "спектакль вульгарности и бессмысленности" — переосмысляются Фридрихом Георгом Юнгером как интуиции и квалификации современности. Кто такой ницшевский актер? Человек-маска, человек, лишенный старой традиционной индивидуальности, человек-праздник. Кто такой ложный актер, по Юнгеру? Человек без праздника. Воздействие его "является серым, жалким и убогим. Он продукт того процесса, по окончании которого человек выпадает из порядка типов и попадает в массу" (c.214). Его задача, по Юнгеру, конструировать идеологии как системы заведомо сомнительного знания. Если тип — это носитель истины бытия, приносящий порядок в мир людей и вещей (5); если "искренний актер" не отрицает своего происхождения от дионисического праздника" (c.214), то ложный актер — это актер, который не хочет, чтобы в нем видели актера. И поэтому так страшно, когда "спадает вуаль с этих риторических фигур, в которых столько лжи, отвращения и ненависти к себе, в которых каждый мнит себя прокурором другого. Наружу вырывается неприкрытая жестокость. Теперь дело за кровожадностью, уже давно обнаружившей себя в блеске глаз" (с.216). Тип разрушен. Его заменила масса. Руководитель масс — не индивид, у которого, по Юнгеру, "вообще нет никаких исторических задач. Он состоит из атомов и распадается на них, он принадлежит к земле или царству животных", — а "ложный актер", детипизация мира для которого — родная стихия, сфера различных манипулятивных средств и форм принуждения. Идеальная государственная форма для оппозиции "масса-ложный актер" — это диктатура, которая неизбежна при той нивелировке, которая происходит сейчас.
Однако это "сейчас" — не "сейчас" Ницше, а "сейчас" самого Юнгера. Напомню, что работа вышла в 1949 г., когда на европейском континенте одна из таких форм организации политического, а именно фашистская Германия, недавно перестала существовать, а другая, сталинский СССР, продолжал свое существование. Именно в Европе путь от разрушения бюргерского ландшафта к господству масс, от того, что Юнгер называет "началом процесса нивелировки", т.е. началом перехода от "типа" к "массе", к некоей нулевой отметке, оказался наиболее кратким. Масса "есть тот человек, который возвращается в состояние, где нет истории и судьбы" (с.235). Смысл "вечного возвращения" отчасти еще и в том, что и к истории, и к судьбе нам лишь предстоит вернуться.
***
В заключение — несколько слово самом издании. Уже упомянутая выше вступительная статья "Поэт возвращения" заслуживает особого внимание как обстоятельное, аргументированное и — что немаловажно для этой книги — стилистически очень корректное исследование творчества Фридриха Юнгера, качество же перевода, выполненного Михайловским, позволяет судить о последнем как о прекрасном переводчике. Тщательность подготовки текста, комментарии, первая публикация на русском языке избранной библиографии работ Фридриха Юнгера, также собранной Михайловским; наконец, вдумчивое и любовное послесловие Гюнтера Фигаля, — все это сделало бы честь любому академическому изданию. К сожалению, полиграфическое исполнение книги — мягкая обложка, соединенные на клею брошюры — только подчеркивает ее историческую физическую недолговечность на фоне той аксиологии, которая в ней заключена
1.В этой связи уместно упомянуть недавно увидевшую свет книгу: Артур Данто. Ницше как философ / Пер. с англ. А.А. Лавровой. М. Идея-пресс, Дом интеллектуальной книги, 2001.
2. См.: Mohler A. Die Konservative Revolution in Deutschland 1918-1932. Grundriihrer Weltanschauungen. Stuttgart, 1950.
3. Пленков О.Ю. Мифы нации против мифов демократии. СПб, 1997.
4. Cм.: Эрнст Юнгер. Рабочий. Господство и гештальт. Тотальная мобилизация. О боли / Пер. с нем. А.В. Михайловского под ред. Д.В. Скляднева. СПб. 2000.
.Этой позиции очень близка позиция Эрнста Юнгера, заявленная им в "Рабочем": тип есть метафизическая маска (или униформа), которая используется единичным человеком, чтобы не быть обезличенным.
Анна РЕЗНИЧЕНКО
![]()
![]()
![]()
![]()
 Випперман
Вольфганг. Европейский фашизм в сравнении. 1922-1982. — Новосибирск: Сибирский
хронограф, 2000. — 232 с.
Випперман
Вольфганг. Европейский фашизм в сравнении. 1922-1982. — Новосибирск: Сибирский
хронограф, 2000. — 232 с.
И БУДЕТ ПРАВИТЬ МИРОМ БЕЗУМИЕ...
Проблема мифологем, их возникновения, развития и вопрос их "разволшебствления" (Ф. Ницше) являются междисциплинарными и поликультурными, присущими не только философскому, историческому или психологическому, но и политологическому дискурсу. Книга германского профессора Вольфганга Виппермана "Европейский фашизм в сравнении. 1922 — 1982" ставит своей задачей проанализировать феномен фашизма в контексте других тоталитарных режимов "оси" и показать основы мифологизации явления, приводящие к неправомочной характеристике понятия.
Випперман справедливо указывает, что лексема "фашизм" (ит. fascio — союз) не несет сама по себе, в отличии от других тоталитарных, да и вообще политических терминов, внутренней смысловой нагрузки (с.11). Под фашизмом исследователь подразумевает партии, объединенные схожими идеологиями и целями, с "заложенной в их основу амбивалентностью". Фашистская идеология выходит за рамки привычных представлений о пропаганде и манипуляции и, по мнению Виппермана, "обнаруживает одновременно антисоциалистические и антикапиталистические, антимодернистские и специфически современные, крайне националистические и тенденциозно транснациональные моменты". Сторонники фашизма характеризуются в том числе и внешне — тем, что обладали своей "иерархической расчлененностью по принципу фюрерства, имели омбундированные и вооруженные подразделения", их специфический политический стиль включал в себя "массовые манифестации, массовые марши, подчеркивание мужского и юношеского характера партии, формы некоторой секуляризованной религиозности, проявлявшиеся, например, в освящении знамен, в почитании мертвых, в песнях и праздненствах и, наконец, не в последнюю очередь, бескомпромиссное одобрение и применение насилия в политических конфликтах, понимаемых как борьба в прямом смысле этого слова" (с.172).
Автор знакомит читателя с генезисом и развитием фашистских партий, с породившими их причинами. Он анализирует факторы, способствовавшие приходу к власти тоталитарных режимов и собственно деятельность фашистских правительств. Одновременно Випперман говорит о движении резистанса в каждой стране, о его значении не только в освобождении от фашизма, но и в воздействии на диктатуру. Так или иначе, участие 50% всего населения Италии в движении сопротивления определило его более "вегетрианский" облик, чем в случае с Германией.
Випперман классифицирует фашистские партии и движения по трем разноыидностям: "итальянский 'нормальный' фашизм, немецкий 'радикальный' и фашизм 'сверху' в балтийских странах, Польше, Венгрии" и целом ряде других государств (с.182). Одновременно данная классификация характеризуется разделением тоталитарных режимов на итальянский фашизм, национал-социализм, "фашистские движения с массовой базой" (Австрия, Венгрия, Франция) и "малые фашистские движения, фашистские секты и пограничные случаи" (Бельгия, Голландия, Норвегия, Польша).
Автор справедливо отмечает ошибочность (мифологичность) атрибутации политики маршала Юзефа Пилсудского как фашистской (с.156). И, действительно, "Начальник Польского государства" был противником любой формы тоталитаризма, не отказываясь в тоже время от опоры на традиционные, временами авторитарные (роспуск сейма в 1926 г.) политические практики. Випперман пишет, что представители национал-демократических партий потерпели поражение на выборах 1928 г., в то время как реальные фашистские организации, имевшие шансы сменить правительственный блок после смерти Пилсудского в 1935 г., не смогли ни найти опоры в массах, ни договориться между собой. Война 1920 г. в очередной раз подтвердила слова маршала о том, что "из трамвая социализма я вышел на остановке 'национальная независимость'". Приверженность консервативным европейским устоям видна и в воспоминаниях Пилсудского о советско-польской войне: "Возможно, я и смог бы дойти до Москвы и прогнать большевиков оттуда. Но что потом?.. Места у них много. А я Москвы ни в Лондон, ни в Варшаву не переделаю. Только, видимо, отомщу за гимназическую молодость в Вильне и прикажу написать на стенах Кремля: 'Говорить по-русски запрещается'...".
В конце книги автор тонко прочерчивает грань между неофашизмом и правыми течениями в послевоенной политической культуре, избегая политической ангажированности, рождающей новые мифы, которая подстерегает любого исследователя недостаточно далеко отстоящего от изучаемого объекта.
Работа Виппермана отличается большой фактологической насыщенностью, что не в последнюю очередь достигается полемикой с другими авторами, которую он органично включил в свое монографическое исследование. Полемика дополняется обширной библиографией, в которой каждая книга сопровождается краткой характеристикой.
Вместе с тем, ряд положений автора могут вызвать возражения. Например, это касается базовой для Виппермана идеи о типологическом сходстве фашизма и национал-социализма (с.40) и их принципиальном отличии от коммунизма (с.17). Необходимо отметить, что такие во многом противоположные исследователи феномена тоталитаризма как Х. Арендт ("новая левая идеология") и А. Безансон ("неоконсерватизм") видели в детище Бенито Муссолини "жесткую авторитарную систему с элементами тоталитаризма". Правда и сам Випперман оговаривается, отмечая что "фанатической, поистине самоубийственной связью с идеологической догмой расовой войны национал-социализм качественно отличается от итальянского фашизма". Так же он видит ряд "количественных различий между режимами Гитлера и Муссолини — в масштабах, в унификации и в совершенстве террористического аппарата" (с.65). Что же касается отличий фашизма и сталинского коммунизма, то тотальный контроль над обществом, жесткий репрессивный аппарат, социалистические отношения в экономике (четырех и пятилетние планы "строительства социалистического будущего"), однопартийный режим, приверженность идеям социализма (впрочем, в разных его прочтениях), мне кажется, вполне доказывают близость всех этих "людожорских" (А. Солженицын) режимов.
Если, развивая тему, сравнить культурные заимствования тоталитарных режимов друг у друга, то можно заметить взаимозаменяемость целого ряда артефактов "тот-арта". Так, например, коммунисты позаимствовали у наци музыку гимна "Хорст Вессель" (имевшую, впрочем, в своей основе старинную мелодию моряков), ставшую на своей новой родине "Маршем авиаторов", а немцы, в свою очередь, стали применять "многоглавость" в плакатах (Маркс-Энгельс-Ленин-Сталин сменились на Фридриха I-Бисмарка-Гитлера). Да и свастика в "Майн кампф" Гитлера называется не иначе как "мотыжным крестом", что делает ее родственной не только с древним руническим письмом и солярной символикой, но и с серпом и молотом — геральдикой СССР. Итальянский неоклассицизм Муссолини через III Рейх включился в соцреалистическое пространство сталинской архитектуры, став "ампиром во время чумы". Впрочем, следует отметить, что тоталитарное искусство творческой оригинальностью не отличалось. Свою знаменитую черную униформу и элементы ритуала итальянские фашисты переняли у организации писателя-символиста Габриэле Д'Аннуцио, чья приверженность к Муссолини весьма сомнительна. Кстати, стихотворный текст песни "Лили Марлен" (немецкий аналог "Землянки" и "Темной ночи"), ставшей чрезвычайно популярной в среде англоамериканских союзников и, несмотря на железный занавес, известной в СССР, появился (автор Х. Лейп) в 1915 г. и лишь в 1938 был положен на музыку Н. Шульцем, так что эта песня не может считаться феноменом тоталитарного искусства.
В качестве частного замечания, относящегося не столько к книге Виппермана, сколько к работе переводчика — А. Федорова (в целом безукоризненно справившегося со своей задачей), важно обратить внимание, что устоявшийся в русском языке перевод Национал-социалистической рабочей партии Германии (Nationalsozialistishe Deutsche Arbeiterpartei — НСДАП), как "Национал-социалистской" (с.39) не совсем корректен. Он возник после 1933 г. по инициативе Сталина, не желавшего терять монополию на понятие "истинного" социализма.
Анализируя природу тоталитаризма, необходимо учитывать его укорененность не столько в культуре (вспомним рассуждения западных левых интеллектуалов, связывавших неудачи его русской модели с тем, что он был занесен на почву "восточной деспотии"), сколько в психологии человека. Развивая мысль Виппермана о социально-психологических факторах фашизма (с.182), можно сказать, что деструктивная практика, направленная вовне и внутрь тоталитарного общества и имеющая архетипические формы во всех его моделях, может быть объяснена тем, что в психоанализе названо одной из форм психического расстройства — суицидом (или "танатосом", согласно З. Фрейду). Суицидальное поведение, согласно психологам, присутствует в каждом индивиде и при ряде неблагоприятных условий может стать доминирующим в его поведении. Безумие тоталитарных диктатур доказало, что суицид является болезнью не только индивида.
Андрей МАРТЫНОВ
![]()
![]()
![]()
![]()
 Малахов Владимир. "Скромное обаяние
расизма" и другие статьи. М.: Модест Колеров и "Дом интеллектуальной книги",
2001. — 176 с.
Малахов Владимир. "Скромное обаяние
расизма" и другие статьи. М.: Модест Колеров и "Дом интеллектуальной книги",
2001. — 176 с.
ЧТО МОЖНО ВООБРАЗИТЬ О "ВООБРАЖАЕМЫХ СООБЩЕСТВАХ"?
Проблематика национального самосознания, национальной идентичности, национализма скользка и призрачна, не поддается окончательной рационализации. Часто кажется — вот, всё, ухватил ее за хвост, поймал, систематизировал... Скажем, в новых российских паспортах ликвидировали графу "национальность" (что, кстати, нарушает Конституцию РФ), а проблем, в том числе чисто теоретических, меньше не стало…
Два главных подхода к пониманию этничности в современной науке — примордиалистский (объективистский), рассматривающий этнос как некую всегда существовавшую в прошлом и существующую в настоящем антропологическую общность, представители которой имеют общих предков и единую расово-биологическую "породу" (разновидностью примордиализма является, в частности, теория этногенеза Льва Гумилева), и конструктивистский, понимающий этнос субъективистски, - как, прежде всего, воображаемое сообщество, созданное на основе тождественности каждого члена с созданным культурной элитой национальным мифом.
Людям, воспитанным в системе советских представлений, несомненно, ближе позитивистско-примордиалистское понимание нации как исторической общности, объединенной территорией, хозяйственным укладом, культурой, обычаями, религией, языком и самоназванием, которая существует не только в настоящем, но также в прошлом и будущем (именно так или почти так трактовали нацию Макс Вебер, Широкогоров, Сталин, академик Бромлей). В последнее время всё более актуальной как для российской науки, так даже и для массового сознания становится теория Бенедикта Андерсона, его концепция нации как "воображаемого сообщества", консолидированного на основе осознания своей тождественности с неким набором идентифицирующих признаков.
Издательство "Дом интеллектуальной книги" среди нескольких книг по национальной проблематике издало сборник работ Владимира Малахова ""Скромное обаяние расизма" и другие статьи". Тексты написаны в разных жанрах (научной статьи, эссе, журнального рассуждения, рецензии, полемических заметок), публиковались они первоначально в разных изданиях и во всех вариантах и подробностях они отображают авторское понимание этнологической проблематики. Точнее, по собственному признанию Малахова, отображают они даже не столько феномен этносов и наций (автор заявляет, что он не этнолог), сколько риторику, дискурс, понятия и категории, порождаемые этнологией.
Владимир Малахов, несомненно, зол. Его полемические выпады против теории этногенеза Льва Гумилева и иных концепций, часто и в самом деле весьма сомнительных, свидетельствуют в пользу того, что политическая корректность, адептом которой он себя не раз называет, — компонент авторитарного по своей сущности мировоззрения. Его главный единомышленник в этнологическом сообществе — директор Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН Валерий Тишков известен своим призывом "Забыть о нации!". Тишков подвергает серьезной критике объективизм и субстанционализм в понимании этноса. Этнос, по его мнению, — не объективная реальность, а конструируемый воображением концепт, поэтому изучать следует не столько этногенез (любимое слово Гумилева), сколько именно нациогенез, "дрейф этничности".
Однако Малахов — далеко не отстраненный исследователь, а имеющий вполне конкретную сверхзадачу идеолог. Он, кстати, высказывает много интересных и справедливых замечаний. Например, об отсутствии опыта мультикультурализма в Российской империи / СССР / РФ, где человек, позиционирующий себя как "не-русский", однозначно обрекался на маргинальное существование. Но подобно большинству либеральных интеллектуалов автор тяготеет к тотальной рационализации проблематики, чем объясняется его негативное отношение к пониманию нации как исторически сложившейся этно-культурной общности, проистекающму из немецкой романтической традиции, и пропаганда французского концепта гражданской нации. Подобно Андерсону Малахов определяет нацию как "воображаемое сообщество", однако в отличие от английского ученого Малахов считает этот мысленный конструкт ненужным и даже вредным пережитком.
Пребывая в пределах современного либерально-демократического дискурса, автор жестко критикует мультикультурализм как опасную идеологию, порождающую вредную политику. Автор отмечает, что "дискурс различия выступает как источник различия", т.е. что осознание этнокультурными меньшинствами своей инаковости в значительной степени провоцируется разнообразными мероприятиями государства: дискуссиями по проблемам "культурного диалога", "столкновения цивилизаций", открытием этнических школ и т. д. Из-за этого, по мнению автора, "мультикультурализм, возведенный в идеологию, блокирует демократический плюрализм, подменяя гражданское общество совокупностью автономных и конкурирующих друг с другом "культурных сообществ"".
По мнению Малахова, осознание каким-либо этносом своей идентичности объясняется исключительно отношением — как правило, неприязненным — окружающих его народов. Следуя этой логике, еврейскую идентичность, к примеру, создает антисемитизм. Мне представляется, что такая точка зрения немного наивна. На самом деле идентичность может порождаться вовсе не неприязнью соседей, но естественным стремлением людей на основании каких-либо собственных качеств выделиться на фоне своего окружения.
Такая нигилистическая по отношению к этно-национальной (а, по существу, и ко всякой иной) идентичности точка зрения, наверное, многим придется не по душе, но, как представляется, претензии по этому поводу следует адресовать не Владимиру Малахову лично, а всем либералам вместе взятым, либеральному д искурсу как таковому. Ведь, с одной стороны, либерально мыслящие интеллектуалы и креаторы отстаивают "права индивида", а, с другой, — пытаются лишить этого самого индивида всех идентифицирующих характеристик. И не только языка, культуры, расового и этнического самосознания, но также имени (путем тотального внедрения ИНН), пола (мода unisex) и что там еще осталось…
В последнее время российскому сознанию прививают вполне определенное мировоззрение, основанное на универсальных и абсолютных (с точки зрения субъектов процесса навязывания) идеологических концептах, составными частями которого являются теории "правового государства", "гражданского общества", "рыночной экономики", "прав человека" в их специфически англосаксонской редакции. По всей вероятности, к этому перечню следует отнести также теории гражданской нации и национального государства (точнее, России как национального государства, — одним из главных адептов этой идеи является Збигнев Бжезинский). Если так пойдет и дальше, не исключено, что через некоторое время быть сторонником иных взглядов в понимании этнологической проблематики окажется просто неполиткорректным. Впереди нас всех ждет еще и не такой мультикультурализм!..
Андрей ОКАРА
![]()
![]()
![]()
![]()
 Хюбнер
Курт. Нация: от забвения к возрождению / Перевод с немецкого А.Ю.Антоновского.
— М.: Канон +, 2001. — 400 С.
Хюбнер
Курт. Нация: от забвения к возрождению / Перевод с немецкого А.Ю.Антоновского.
— М.: Канон +, 2001. — 400 С.
Уже не одно столетие нация и связанные с ней вопросы национального самоопределения занимают умы мыслителей. В научном описании этого феномена использованы практически все его составляющие — историческая общность людей, занимаемая ими территория, устойчивые экономические и социальные связи, язык, историческая память, национальная культура, национальный характер, национальное сознание и самосознание, государственность. Написаны тысячи книг, предложены сотни концепций, однако, что представляет собой нация — сказать по-прежнему непросто. Спектр мнений по этой проблеме очень велик — от утверждения нации как определенной ступени развития человечества или совокупности всех граждан одного государства (нация-государство) до восприятия ее как некоего мифического конструкта, существующего исключительно в головах исследователей.
В этой связи весьма интересной представляется концепция немецкого философа Курта Хюбнера, рассматривающего происхождение нации в русле демифологизации общественного сознания на протяжении нескольких тысячелетий. Он пишет, раскрывая замысел книги: "Сегодня широко распространено мнение, будто национальное мышление недостойно просвещенного и открытого миру человека и принадлежит убогой мифологии прошлого. Особо предостерегают против национального государства, которое якобы опровергнуто самой историей. Но именно те, кто об этом говорит, неспособны различить между искажением, которое претерпевала национальная идея, начиная со второй половины прошлого столетия, и идеей нации, которая последовательно развивалась из просвещенческой идеи народного суверенитета. <…> Так и не было осознано, что феномен нации никоим образом не является открытием девятнадцатого столетия, но издревле составлял субстанциональную основу государств, не исключая — вопреки расхожему и ошибочному мнению — античности и Средневековья. Недавно появившиеся предложения по замене — якобы отжившего свое — национального государства на так называемое мультикультурное общество нелепы и коренятся в мышлении, чуждом нашей действительности. <…> Идея нации и идея Европы должны быть осознаны в их исторической глубине. История открывает нам, почему и в какой форме эти идеи стали несущим элементом современного государства. Здесь историческое невежество — источник всевозможных заблуждений" (с.8-9).
Итак, кредо Хюбнера — определить истоки идеи нации в их исторической глубине. И начинает он с обращения к античности. По мнению К.Хюбнера, в основе множества идей нации находится некий идеальный образ — миф, предание или легенда, объединяющие индивидов в единое целое. Возможно, по отношению к середине XIX в. этот постулат Хюбнера действительно работает, однако по отношению к более раннему и более позднему времени оперирование им связано с рядом известных условностей и натяжек. Допустим, античная греческая цивилизация посредством мифа действительно пыталась конституировать свое национальное мироощущение, а греческие города-государства являлись своего рода выразителями идеи нации. Тем не менее, национальное самосознание античности, как известно из дошедших до нас источников, было настолько условным, настолько зыбким, что позволяло древним эллинам неоднократно менять свою полисную принадлежность, переходя во время войн, часто по каким-то личным мотивам под покровительство другой культурной общности или, вообще, другого негреческого государственного образования. Поэтому применимость избранного автором научного инструментария к отдаленным временам вызывает вопросы.
И снова вернемся к культурному нациеобразующему мифу Хюбнера. К моменту угасания Римской империи на ее просторах уже не было единого объяснения происхождению нации. Легенда об основании Рима Рэмом и Ромулом канула в прошлое и больше не волновала умы римских граждан. На огромном пространстве империи установился пседомиф цезаризма — "мультикультурного, ставшего необозримым общества, которое, будучи толерантным, целиком пронизывалось пороками поверхности и необязательности", в котором "мультикультурный синтез и хаос мифов, религий, культов и философских школ влекли за собой всеобщую релятивизацию ценностей, все большую утерю идентичности и прогрессирующее разукоренение костенеющих национальных связей" (с.36). Вот оно, по сути дела, первое возражение Хюбнера против идеи мультикультурализма. Мультикультурное общество, по Хюбнеру, размывает устои государства и общества. Человек начинает чувствовать себя только человеком, а не представителем какой-либо определенной нации, теряет с ней необходимую связь. По сути дела, хюбнеровское понимание мультикультурализма родственно концепции "бегства от свободы" Эрика Фромма. Если у Фромма человек не выдерживает свалившейся на него свободы и всячески стремится ее избежать, то у Хюбнера индивид убегает от собственной идентичности, впадая в противопоказанный ему мульткультурализм, таящий в себе угрозу исчезновения национальной специфики: "культурное смешение привело бы к тому, что ни один из его элементов не достиг полноценного раскрытия, если вообще все они, в конце концов, не растворятся бесследно в высохшем месиве. Люди потеряли бы свою идентичность, не получив взамен никакой по настоящему новой, ибо в этом случае человек не принадлежал бы ни первой, ни второй" (с.389-390).
Осознав это и испугавшись грядущего вневременного и внеисторического бытия нации в мультикультурном обществе, Хюбнер предупреждает, что в случае окончательной реализации такового будет потеряно движущее начало человеческого существования, базирующееся на противопоставлении своего и чужого. "Исторический опыт учит: совместная жизнь различных культур в узком пространстве всегда была постоянным запалом, приводящим к новым и новым взрывам. Так мы не достигнем желаемой толерантности. <…> Требование мультикультурного общества в конечном счете сводится лишь к тому, чтобы в пустопорожнем резонерстве человек потерял бы свои собственные корни и рассматривал культуру не как образ жизни, а всего лишь как интеллектуальную игру. Поэтому толерантность, которая делает возможной распространение этой игры, в своей основе оказывается лишь безразличием" (с.390).
Итак, предупреждение сделано. Выходом из этой ситуации, с точки зрения Хюбнера, было, есть и будет существование нации как определенной, образующей государство конструкции. Культурный опыт исторического бытия европейских наций настолько велик, что позволяет безболезненно конвертировать их ценности из одной эпохи в другую. "В нынешнее время, когда вновь начинают обрисовываться контуры европейского единства, особый интерес, даже восхищение вызывает наблюдение того, как из конкурирующей массы элементов Римской мировой империи выделилась и развилась Священная Римская империя Средневековья" (с.40).
Следуя концепции Хюбнера, европейская история еще на закате Римской империи отвергла мультикультурализм (Pax Romana) как форму общественного развития, неспособную защитить граждан Рима от внешних врагов и противостоять новым вызовам времени. Вполне логично, что, отказавшись от мультикультурного развития общества, средневековая цивилизация начала восхождение к идее единой Европы от множества мелких полуофициальных владений-государств-наций, основанных большей частью на личной воле и власти владетельных господ и сеньоров и стремлении их членов к универсальной экономике, культуре, религии, питающемся за счет многообразного давления извне.
Далеко не случайно еще одной движущей силой средневековой культуры стал многовековой спор об универсалиях, обогативший мир пониманием общего и особенного, универсального и национального. В русле этих идей развивалась борьба за обладание властью — духовной (Ватикан) или светской (монархия), рассматриваемая как своего рода продолжение мультикультурного наследия Римской империи. Именно отсюда проистекает хюбнеровское понимание нации как индивидуальной исторической культурной формы с особенной исторической судьбой, которая, как и судьба отдельной личности, может быть изложена в рассказе (с.52).
Абстрактное и конкретное мышление, вызревшее в рамках схоластики, принесло понимание двух концепций государственности наций — в духе романтизма и в духе Просвещения. Одновременно с этим шел и поиск форм существования нации-государства — абсолютизм, тирания, монархия, просвещенное государство, самоуправляемое общество, республика. Серьезным шагом на пути к оформлению нации стало открытие такого неизвестного доселе явления как гражданство — сознание принадлежности к определенному государственно-потестарному образованию. Наряду с династическим наследованием власти, развитием промышленного производства оно сыграло серьезную роль в определении индивида как представителя какого-либо определенного пространственно-временного социума.
Поиском национальной специфики пронизаны философские сочинения гуманистов и утопистов, стремившихся выразить идеалы государственного устройства будущего. Однако и в их видении нации сознательно или случайно проскальзывают образы мифотворчества и иронии, блестяще подмеченные Хюбнером. Похоже, что, действительно, реальное и мифологическое в формировании наций настолько дополняют друг друга, что при желании с легкостью перетекают одно в другое, но не будем сильно забегать вперед и скажем об этом чуть далее.
Насколько индивид связан с родственным ему по происхождению национально-культурным сообществом, настолько сильна в его сознании идея нации. Но чем больше национальная идея занимает его ум, тем выше вероятность того, что рано или поздно она превратится в шовинизм и чувство национального превосходства, как это произошло в романтической философии позднего времени, или в еще более искаженной форме станет опорой диктатур — фашизма и сталинизма (глава 7). Видя в нации надвременное явление, романтическая философия логически пришла к выводу о существовании исторических и неисторических наций, о нациецентризме, национальной эсхатологии и предопределении. В этом смысле она совершила открытие национальной идеи.
Создание национальной идеи — еще одна составляющая формирования нации. В европейской истории этот процесс соотносим, пожалуй, со временем рационалистического обоснования индивидуалистического государства и европейской идеи Лейбница, что мимоходом рассматривается Хюбнером. Интерпретируя Лейбница, он говорит: "по аналогии с божественным творением <…> все европейские государства должны находиться в отношениях друг с другом в состоянии предустановленной гармонии, и именно немецкой империи, рожденной в средневековой универсальной империи, судьбой Европы предопределено стать ее образцовым центром" (с.97-98), "судьба Европы навеки и самым тесным образом переплетается у Лейбница с судьбой Германии. Европа не способна достичь своего расцвета без своего могучего центра, а Германия без Европы не может стать тем, чем она стать должна" (с.99).
Что-то подобное и близкое европо и нациецентризму Лейбница мы можем впоследствии найти и в русской философии конца XIX — начала XX века: "Мы принадлежим к числу тех наций, которые как бы не входят в состав человечества, а существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь важный урок. Наставление, которое мы призваны преподать, конечно, не будет потеряно; но кто может сказать, когда мы обретем себя среди человечества и сколько бед суждено нам испытать, прежде чем исполнится наше предназначение" (1), однако об этом Курт Хюбнер или не знает, или умалчивает.
Вернемся к хюбнеровскому пониманию нации. В основе любой нации априори лежит идентификация человека с коллективом и, по мнению автора, "не только идентичность личности, но и идентичность нации являет собой необходимое условие человеческого общежития" (с.291) или, другими словами, "идентичность нации является столь же необходимым практически постулатом человеческого общежития, как и идентичность индивидуального лица" (с.292). Рассматриваемая через призму идентичности нация может быть представлена "как определяемая множеством исторических регулятивных систем, которыми в своих обычных действиях, речи, мышлении, чувствах и желаниях — отчасти осознанно, отчасти неосознанно — в определенные моменты времени руководствуются объекты, принадлежащие к этой нации" (с.293).
Что ж, с точки зрения философской антропологии, определение вполне приемлемое. Оно учитывает такие важные для социальной антропологии дефиниции как язык, территорию, общее происхождение, социально-экономические связи и отношения. Однако слабость его состоит в том, что это определение, по сути дела, оказывается чрезвычайно узким, применимым лишь по отношению к государственной этносоциальной общности. Чтобы компенсировать эту узость, Хюбнер вводит в научный оборот такие дефиниции, как "государственная нация", "культурная нация", "субнация", обозначающие, соответственно, носителей "национально гомогенного (единого национального) или охватывающего ее целиком государства (национального единого государства)", нацию безотносительно "к ее воплощению в государстве" и "одну из наций, образующих национальное многообразие".
Что-то уж слишком знакомое слышится в этом делении, что-то навевающее воспоминания о советской теории нации с ее делением на "этнос", "этникос" и "этносоциальную общность". Названия разные, но суть их практически одна и та же, и все они одинаково мало соответствуют реальному пониманию нации как общественно-социального и политического явления.
Похоже, что сегодня европейское понимание нации снова подошло к мифологическому пределу, за которым скрывается вымышленное и ожидаемое, а не реальное и действительное. Ожидаемое объединение Европы привносит в общественную жизнь новые архетипы и образы, ложащиеся на уже веками подготовленную почву философского обобщения. Показательно, отмечает Хюбнер, что "мифическая и национальная идентификация демонстрируют одинаковые структуры <…> стиль и формы мышления в обоих случаях одни и те же: единство всеобщего и особенного, целого и части, идеального и материального" (с.359).
В чем же тогда оправдание нации? Где тот рубеж, за которым ее существование оказывается лишенным смысла? Для Хюбнера он представлен мультикультурным обществом, в котором нации растворяются и теряют свою исключительность. Опасение действительно оправданное, но далеко не реальное, поскольку ни Европа, ни все человечество в целом пока и в ближайшем будущем еще не в состоянии будут достичь такого единства. Это, как показывает даже успешный пример внутренней мультикультуралистской политики Соединенных Штатов Америки, будет способствовать возникновению неких иных форм идентичности — по месту происхождения, социальным роли и статусу и т.д. В этом случае оправданием существования нации, вероятно, как и прежде станет поддержание культурного разнообразия внутри определенного пространственно-временного континуума, внутри государства. Поступательное движение европейской истории, детерминированное новыми угрозами жизни общества, еще не скоро придет к пониманию единой европейской нации как совокупности всех населяющих Европу народов. Но даже и в этом случае собственно национальная идентичность европейцев не исчезнет сама по себе. Питаемая исторической памятью, она лишь будет дремать до определенного времени, чтобы потом проявиться вновь. И поэтому хюбнеровское видение нации способно оправдаться с очень большой вероятностью, причем гораздо большей, чем мультикультурализм.
1. Cм.: Чаадаев П.Я. Философические письма // Россия глазами русского. Чаадаев. Леонтьев. Соловьев. СПб., 1991. С.26.
Александр КАЛАБАНОВ
![]()
![]()
![]()
![]()
Гуськова Е.Ю. История югославского кризиса. (1990-2000). — М.: Русский национальный фонд; Издатель А.Соловьев, 2001. — 717 с.
Выход в свет книги руководителя Центра по изучению современного балканского кризиса при Институте славяноведения РАН, доктора исторических наук Елены Юрьевны Гуськовой стал долгожданным событием в отечественной югославистике. За время, прошедшее с начала драматического распада крупнейшего балканского государства, вышло много работ по данной проблематике, но, в основном, по отдельным ее аспектам. Комплексного же исследования, в котором югославский кризис был бы изучен целиком, "с документами и лупой в руках" (с.10), пока не было. И вот, наконец, оно появилось.
Выгодной особенностью данного труда является избранный автором способ подачи огромного фактического материала, при котором проблемное изложение "объективной истории происходившего на Балканах… приближено к хронике" (с.10). Это делает знакомство с книгой вдвойне ценным для читателя, позволяя увидеть события глазами не просто исследователя, но очевидца событий, каковым и является Е.Ю.Гуськова. В силу этого монография сама по себе может служить источником по исследуемой теме.
Написанная с использованием большого количества оригинального источникового материала, с привлечением неопубликованных документов, которые тем самым впервые вводятся в научный оборот, монография рисует полную трагичности картину югославского кризиса, заставляя читателя в полном смысле слова почувствовать горячее дыхание Балкан. При этом, несмотря на внушительный объём (свыше семисот страниц), который так пугает в научных трудах нерадивых студентов, книга читается очень легко и моментально "усваивается". Отныне ни один грядущий исследователь истории Югославии конца ХХ века не сможет обойтись без основательного изучения данной работы.
История югославского кризиса рассматривается Е.Ю.Гуськовой на протяжении десяти лет последовательно и по существу. Предваряет книгу "Введение" (с.7-38), в котором, помимо обязательных в подобных разделах моментов, присутствует главка "Информационная война" (с.24-30). Именно СМИ, которые во многом были субъектами конфликта, а не сторонними и объективными наблюдателями, сыграли в его развитии, как пишет автор, зловещую и непростительную роль. (с.24). В связи с этим приходится задуматься об уровне действительной свободы и независимости четвертой власти.
Возникновение кризисных явлений в Югославии невозможно понять без краткого экскурса в политическую историю отдельных югославских народов, возникновения единого югославского государства, его развития после Второй мировой войны, особенностей складывавшихся межнациональных отношений и господствовавших в разные периоды идеологических концепций совместной жизни, а также анализа непосредственно предшествовавших кризису процессов. Этому посвящена первая глава "Накануне" (с.39-126). В этот период страна остро ощущала необходимость перемен во всех сферах общественной и государственной жизни. Вот только цели этих перемен виделись в отдельных республиках бывшей СФРЮ по-разному.
При этом необходимо отметить удивительный парадокс: в стране, всегда уделявшей повышенное внимание национальному вопросу, гармонизации межнациональных отношений, именно национальные противоречия во многом спровоцировали кризис. На наш взгляд, причина этого кроется именно в гипертрофированном стремлении устранить даже малейшие поводы для возникновения трений в этой области. Причем основным инструментом такой политики стало фактическое размывание федеральной структуры. Пытаясь воплотить на практике новый умозрительный тип договорного федерализма (с.62) с отсутствием присущей федеративному государству субординации (центр и субъекты федерации в СФРЮ были уравнены в правах), югославское руководство в итоге оказалось перед фактом дефункционализации федеративного центра как такового и, следовательно, ослабления единого югославского государства. Все это происходило в условиях еще протекающей у некоторых народов Югославии национально-политической консолидации, что очень часто приводит к стремлению создать независимое национальное государство.
Совершенно справедливо автор указывает, что "в условиях многонационального государства любое обострение социально-экономических проблем (а последние были весьма серьезны в СФРЮ — З.К.) неминуемо превращает их в проблемы национальные" (с.65). Единственный выход виделся в новой централизации политической и экономической власти, ликвидация подрыва монопольного положения Центра (с.67). Мы бы добавили, что в условиях сложившейся в СФРЮ в конце 1980-х гг. ситуации подобная мера не столько преследовала данную цель (весьма корыстную и похожую на перетягивание югославского одеяла), сколько была порождена необходимостью мобилизовать усилия всего югославского общества для скорейшего выхода из социально-экономического кризиса. И не вина Центра, что к этому моменту выход из кризиса некоторые республики предпочитали искать по отдельности.
Автор подробно рассматривает расстановку политических сил в республиках, борьбу нарождающихся некоммунистических партий разного толка с господствовавшим режимом и его носителями — общеюгославским, республиканскими и краевыми союзами коммунистов, — показывает внутреннюю трансформацию СК в субстрат для развития многопартийной системы, дает анализ первых многопартийных выборов и их последствий для сохранения единой страны (с.68-106). Автор детально рассказывает о том, как в первоначальный период распада СФРЮ, когда отделялась Словения, был изощренно применен целый ряд приемов, впоследствии кардинально повлиявших на ход урегулирования кризиса и достигнутые при этом результаты. Среди них на первое место выходит манипуляция общественным мнением, особенно за пределами Югославии, создание стереотипов, подмена понятий и смещение акцентов (с.115). В итоге в первой главе в емкой и сжатой форме показан весь комплекс причин распада СФРЮ.
Вторая глава посвящена следующему этапу распада — войне в Хорватии и лежавшему в ее основе сербскому вопросу (с.127-218). Кровавое развитие событий в Хорватии (как, впрочем, и в случае с Боснией и Герцеговиной, Автономным краем Косово, Македонией — З.К.), по мнению Е.Ю.Гуськовой, обусловлено слабой теоретической разработкой вопроса о праве наций на самоопределение. Его нюанс в СФРЮ заключался в неопределенности по поводу субъекта этого права: государство (или территория, т.е. Хорватия) или народ (т.е. хорваты и, соответственно, точно так же сербы, проживающие на территории республики) (с.127). Результатом стало то, что решения принимались на основе интересов отнюдь не всех народов Хорватии. Как с документами в руках показывает автор, началу гражданской войны и радикализации сербского движения в республике способствовала политика правящей партии, Хорватского демократического содружества, и персональная позиция покойного президента Ф.Туджмана, а не поддержка Белграда. Однако последнее утверждение в течение многих лет кочевало из работы в работу по этой теме. Более четкому пониманию хорватских событий способствует строго выстроенная их периодизация и хронология.
Обращает на себя внимание (с.163) отличие восприятия происходящего и в целом отношения к сербам у политической элиты и хорватского общества и отношений на местах, часто демонстрирующих взаимовыручку и поддержку, готовность местных властей, в отличие от центральных, установить межнациональный диалог. В итоге, на наш взгляд, напрашивается вывод, что Хорватия действительно стала жертвой, но не "сербской агрессии", а политики собственного националистического руководства. Тот кризис национального самосознания, в котором оказалась хорватская часть общества в республике, потребует длительной реабилитации и глубокого осознания произошедшего. Подтверждением тому являются приводимые в книге слова известного ученого-экономиста Бранко Хорвата: "…Сегодня в мире Хорватию презирают. Когда я приезжаю на какой-либо международный симпозиум, мне стыдно говорить, что я хорват…" (с.504).
Одной из отличительных черт монографии является то, что на ее страницах мы слышим голоса живых участников описываемых событий, что придает повествованию невероятную выпуклость и достоверность. В итоге читатель может почувствовать саму атмосферу, царившую в селах и городах, ужас и смятение людей перед надвигавшейся катастрофой и гражданской войной.
Интересным и чрезвычайно важным является анализ роли Югославской народной армии в 1991-1992 гг. (с. 175-191). Из него видно, как новые власти в Хорватии всячески пытались спровоцировать армию на какие-то силовые действия с тем, чтобы потом использовать это в пропагандистской войне, не говоря уже о прямом физическом и моральном давлении, оказываемом на личный состав ЮНА с целью заставить его, бросив все, уйти из республики. Особо разбирается такая сложная тема, как судьба Вуковара, многонациональное население которого по сути было принесено в жертву новой хорватской государственности (с.191-206).
При анализе сложнейших процессов в Боснии и Герцеговине (глава III, с.219–328), которая представляла собой Югославию в миниатюре, автор останавливается, прежде всего, на внутренних проблемах трех основных народов БиГ, борьбе за раздел республики, его военном аспекте. Автором показан механизм перерастания политических разногласий в военные столкновения и гражданскую войну, мотивации сторон, их цели и методы достижения этих целей. Анализируется проблема Сараева — социальная, национальная и даже криминальная подоплека трагедии этого многоэтничного города. Весьма интересным является подробное описание процессов в национальных образованиях БиГ — мусульманских общинах, хорватской Республике Герцег-Босна, Республике Сербской, а также в Западной Боснии, автономной от мусульманского правительства мусульманской же области, впоследствии ликвидированной правительственными войсками. Особенно неблаговидной предстает деятельность ООН, которая фактически вмешивалась в конфликт на стороне мусульманского правительства в тех районах, где осуществлялось миротворчество (с.275, 276, 295). Показательным в этом отношении стало устранение всех главнокомандующих Силами ООН по охране со своих постов ранее сроков их мандатов за малейшее объективное высказывание в адрес сербской стороны (с. 392–395). При этом заслугой автора является реабилитация деятельности российских миротворцев (с. 408-414), которая периодически очерняется в отечественных СМИ.
Четвертая глава "Интернационализация конфликта" (с. 329–490), посвященная участию международных посредников в урегулировании югославского кризиса, самая большая в книге. Это не случайно, поскольку Е.Ю. Гуськова придерживается концепции, что "внешний фактор сыграл определяющую роль в развале федерации" (с. 44). Задавая вопрос: "Урегулирование по-западному: не могли или не хотели?", автор тем самым ставит проблему истинных целей международных посредников на Балканах, поскольку "итогом бурной деятельности международных организаций явилось разрастание, углубление и расширение кризиса", а также выбор силового фактора в урегулировании международных отношений (с.329). Главную причину этого автор видит в том, что посредники исходили не из интересов югославских народов, чьей судьбой они занимались, а из интересов тех стран, которые они представляли, или стран-доминантов в тех или иных международных организациях (с.330). Мы бы добавили, что позиция "не учитывать интересы всех враждующих сторон" была для большинства международных посредников принципиальной.
Е.Ю. Гуськова систематизирует переговорный процесс в Хорватии и БиГ, рассматривая предлагавшиеся планы урегулирования, их реализацию и причины неудач (с 331–478). Из проведенного анализа вытекает, что большинство участвовавших в урегулировании лиц выполняли свои миссии, уже имея готовую цель. Причем заключалась она отнюдь не в достижении справедливого мира (с.331). В монографии убедительно продемонстрировано, как с помощью провокаций, инсценировок, угроз, прямого давления и обмана посредники добивались прежде всего необходимых сильнейшим государствам мира геополитических и геоэкономических перемен на Балканах. В условиях информационной блокады очень ценными являются личные впечатления автора, работавшего в штабе миссии ООН в Югославии. В итоге, сделанные выводы (с.478-481) показывают глубину произошедших в мире в 1990-е годы. политических изменений, степень упадка ООН как единственной универсальной международной организации и ее миротворческой деятельности.
В главе V "Падение Сербской Краины" (с.491-505) показана обреченность РСК при попустительстве посредников и полном равнодушии мирового общественного мнения к трагедии гражданского населения РСК. Именно уверенность хорватского руководства в непротивлении международного сообщества действиям хорватской армии в РСК привела к полному исходу сербов из Хорватии, где они жили столетиями.
Шестая глава посвящена позиции России в балканском урегулировании (с.506-562). Давая детальную периодизацию российской политики на Балканах, Е.Ю.Гуськова отмечает бoльшую зависимость ее от личности и взглядов тогдашнего министра иностранных дел А.В. Козырева, чем от национальных интересов государства. Этим в значительной степени объясняются вопиющие провалы на югославском направлении. Дополнительную лепту вносила некомпетентность министра в вопросах, которыми он занимался и, самое главное, по которым имел возможность единолично принимать решения (с.517-519). В итоге, следует неутешительный для российских национальных интересов и престижа вывод о непоследовательности, противоречивости и неуверенности нашей балканской политики в первой половине 1990-х годов (с.537, 541, 549). Провалы периода А.В. Козырева в регионе были так велики, что ни сменившему его Е.М. Примакову, ни И.С. Иванову не удалось восстановить традиционную для нашей страны роль на Балканах. Заметим, что на исправление ошибок, совершенных национальной дипломатией, требуются годы, десятилетия, столетия, а иногда и вечность.
В главе VII "Югославия в опале" (с. 563-609) рассматривается жизнь в СРЮ в условиях полной изоляции от внешнего мира и обструкции со стороны международного сообщества. Единственное чего, по мнению автора, добились авторы санкций — это подрыва генетического потенциала нации и экономического — страны, то есть того, что принято называть человеческим развитием. Все это заставляет усомниться в целях, которыми официально объяснялось введение санкций. Исследование первых лет существования новых государств на территории бывшей СФРЮ (глава VIII, с. 610-643) показало, что бывшие республики приобрели в результате распада больше проблем. Предстоит пройти долгий путь для нормализации обстановки, а самое главное — новые государства все равно оказались перед необходимостью восстановления тесных отношений во всех сферах.
Последняя девятая глава (с. 644-690) посвящена кризису в Косове, который стал очередным этапом югославского кризиса (с. 644). По мнению автора, сам ход его урегулирования стал продолжением политики и тактики, опробованной ранее в Хорватии и БиГ. Суть проблемы Косова — в столкновении взаимоисключающих интересов албанцев (отделение от СРЮ и Сербии, а также нежелание признавать государственные институты страны, в которой они живут) и Сербии (сохранение своей территориальной целостности) (с.659). Вмешательство НАТО преследовало совсем иные цели, нежели простое согласование этих интересов. Как считает Е.Ю.Гуськова, Косово было использовано в качестве повода для оккупации СРЮ и дальнейшего расчленения страны (с.666), а также знаменовало собой переход к новой фазе в строительстве системы управления миром (с.674).
В "Заключении" (с.691-695) Е.Ю.Гуськова по пунктам раскладывает применявшуюся на Балканах тактику для более успешной реализации целей НАТО и дает рекомендации российской дипломатии, как избежать повторения югославского сценария на территории нашей страны. Направленность политики НАТО именно против России представляется автору несомненной, а Югославия лишь на десять лет смогла замедлить ее (с.691). Последнее выглядит очень тревожно, так как опыт последних десяти лет показывает, что нельзя одновременно протестовать против расширения НАТО на восток и не делать ничего, чтобы этому реально воспрепятствовать (или делать все, чтобы планы НАТО все-таки осуществились). Хотя, возможно, Россия на самом деле не имеет ничего против расширения НАТО на юг.
Данное исследование прорывает информационную и научную блокаду, разрушает многие уже возникшие стереотипы и показывает югославские события в их истинном свете. К сожалению, "История югославского кризиса (1990-2000)" — это история с продолжением. По чисто техническим причинам в монографию не вошел анализ новой фазы югославского кризиса, которую мы все наблюдали в Македонии в 2001 г. и которая, судя по всему, еще не подощла к концу. Кризис еще не стал в полной мере историей, но является самой живой реальностью. Неблагодарное дело — выступать в роли Кассандры, но Югославию (СРЮ), видимо, ждут дальнейшие испытания и дробление территории. Остается еще достаточно точек приложения активности НАТО (Черногория, Санджак (область на юге Сербии), АК Воеводина).
И последнее. Всей этой истории могло бы и не быть, если бы не распад Советского Союза в 1991 г. и последовавший за этим событием разрыв с лучшими традициями российской и советской внешней политики. Именно обращение сербов к собственным традициям, в том числе и к традиционным для нее отношениям с Россией, и явилось причиной их неприятия модернизированным Западом. Страна без исторических традиций — это больная страна. Чтобы ее вылечить, требуются усиленные меры и квалифицированные доктора. Будем надеяться, что рецензируемая книга станет тем самым рецептом, следование которому приведет к выздоровлению нашего многострадального Отечества.
Зоя КЛИМЕНКО (к. полит. н., ИСП РАН)