


|
|
||
 |
 |
 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Выпуск от 18.04.2001 "Украина и Россия: единое цивилизационное пространство?"
В выпуске:
Евзеров Р.Я. Украина: с Россией вместе или врозь? М.: Весь Мир, 2000. — 160 с.
Дергачев В.А. Геополитика. Киев: ВИРА-Р, 2000. — 448 с.
![]()
![]()
![]()
 Миллер
А.И. “Украинский вопрос” в политике властей и русском общественном мнении (вторая
половина XIX в.). СПб.: Алетейя, 2000. — 260 с.
Миллер
А.И. “Украинский вопрос” в политике властей и русском общественном мнении (вторая
половина XIX в.). СПб.: Алетейя, 2000. — 260 с.
Евзеров Р.Я. Украина: с Россией вместе или врозь? М.: Весь Мир, 2000. — 160
с.
“УКРАИНСКИЙ ВОПРОС” И ПОИСКИ ОТВЕТА НА НЕГО
Сочинения по украинской тематике в России издаются крайне редко. И это плохо. Поэтому каждая новая книга интересна уже хотя бы самим фактом своего появления. Но даже среди имеющихся работ достойные образцы можно посчитать по пальцам. Эти две достаточно разные по жанру и области исследования украиноведческие книги объединяет главное — обе они вышли в России и их авторы счастливым образом избежали предвзятого отношения к объекту своих изысканий.
Еще на памяти скандалы, связанные с выходом книги Николая Ульянова “Происхождение украинского сепаратизма” (М., 1996) и сборника дореволюционных украинофобских фрагментов “Украинский сепаратизм в России. Идеология национального раскола” (М., 1998; составитель Михаил Смолин, серия журнала “Москва” “Пути русского имперского сознания”). Как недружественный и даже провокационный шаг был расценен не столько сам факт выхода в свет этих книг, сколько специфика их позиционирования на книжном рынке: они преподносились не как представляющие некоторый научный интерес дореволюционные и эмигрантские тексты по истории становления российского и украинского самосознаний, но как “руководство к действию” — как настольные пособия для газетных украинофобов. Справедливости ради стоит отметить и украинские почти “симметричные” им русофобские издания последних лет, среди которых претендует на концептуальность сборник публицистических статей почившего в середине 1990-х украинского писателя-“шестидесятника” Евгена Гуцало “Ментальність Орди” (Киев, 1996) и монография львовского профессора антропологии Романа Кися “Фінал Третього Риму. Російська месіянська ідея на зламі тисячоліть” (Львов, 1998).
Совсем иное впечатление производят вышедшие в конце 2000 года монографии ““Украинский вопрос” в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX в.)” историка Алексея Миллера и “Украина: с Россией вместе или врозь?” политолога Роберта Евзерова. В концептуальном плане и по своему тону — исследовательскому, а не пропагандистскому, — обе книги продолжают традицию изданных в 1997 г. в Москве сборников статей по актуальным проблемам российско-украинских отношений “Россия — Украина: история взаимоотношений” и “Украина и Россия: общества и государства”.
Книга Алексея Миллера, известного слависта и специалиста в области нациогенеза, — возможно, лучшее, что написано на данную тему, по крайней мере, из доступных книг на русском, украинском и английском языках. Неангажированность автора в украинской проблематике (занимаемая им позиция “постороннего историка”) немало способствовала успеху исследования — украинские работы о XIX веке обычно тенденциозны, наполнены обидами на политику имперского центра и поэтому концептуально довольно слабы. Российские сочинения на ту же тему, как правило, пронизаны конспирологическими сюжетами об “австро-польской интриге”, неприятием украинской культуры, недовольством по поводу “отделения” и прочими традиционными сугубо российскими претензиями к Украине. Вообще, значительное число историков (едва ли не большинство) — и украинских, и российских, и даже польских — ощущают себя не пассивными наблюдателями, а участниками идеологического сражения. Ангажированность этих ученых проявляется в том, что и украинская, и “большая русская” нации трактуются применительно к XIX в. как уже консолидированные сообщества, тогда как именно этот период отмечен наиболее активной борьбой внутри них.
Наиболее популярные в среде великоросских, польских и украинских националистов взгляды на Украину — как на часть “единой (“триединой”) и неделимой России”, как на “восточные окраины” “Польши от моря до моря” или как на совершенно самостоятельную страну и самодостаточный народ, не имеющий прямого отношения к России и Польше, но постоянно терпящий от них всевозможные утеснения, — для отстраненного взгляда историка не повод к бесполезным и утомительным этноцентристским спорам, а стимул к изучению ситуации взаимного наложения или даже конфликта “идеальных Отечеств”. Сам Алексей Миллер исследует образ “идеального Отечества” как сложную идеологическую конструкцию, возникающую в процессе моделирования нации и описывающую, часто в утопическом ключе, социально-политические отношения, которые должны сделать Родину счастливой, а также определяющую “правильные” и “справедливые” параметры этого Отечества — территорию и население.
Два главных подхода к пониманию этничности в современной науке — примордиалистский (объективистский), рассматривающий этнос как некую всегда существовавшую в прошлом и существующую в настоящем общность, которая имеет единую расово-биологическую “породу” (разновидностью примордиализма является и теория этногенеза Льва Гумилева), и модернистский, понимающий этнос в субъективистском ключе, — как воображаемое сообщество, возникшее на основе тождественности каждого члена с созданным культурной элитой национальным мифом. Большинству советских людей, видимо, понятнее позитивистско-примордиалистское понимание нации как исторической общности, объединенной территорией, хозяйственным укладом, культурой, обычаями, религией, языком и самоназванием. Она существует не только в настоящем, но и всегда существовала в истории. Именно так или почти так трактовали нацию Макс Вебер, Широкогоров, Сталин, академик Бромлей. Большинство украинских “национально-сознательных” деятелей и прошлого, и настоящего (литераторов, гуманитарных интеллектуалов, политических активистов) исходят, как правило, из примордиалистского понимания собственной нации (отсюда — их тезис о существовании Украины и праукраинцев чуть ли не в современном виде и тысячу, и десять, и двадцать тысяч лет назад, отсюда также встречающиеся иногда экзотические представления об украинском происхождении Иисуса Христа и Богородицы). Вместе с тем, подобные деятели — активная часть национально просвещенной интеллигенции — сами фактически являются живым подтверждением конструктивистских теорий нации, поскольку их культурно-просветительские занятия (или по-современному PR — public relations) сводятся прежде всего к попыткам убедить менее сознательных членов украинского общества в том, что их задача стать носителями культуры и языка своей национальности. Такая особенность украинского национализма, когда примордиалистская концепция нации становится орудием для модернистского нациостроительства и консолидации “воображаемого сообщества”, подтверждает достаточно широко распространенное среди этнологов представление, что нациогенез и этногенез украинцев (особенно восточных) не завершен и борьба за их души и национальное самосознание продолжается.
История, как известно, полна “несостоявшимися” нациями. Те или иные объективные особенности этнической группы, язык, культура, даже характерные стереотипы поведения — это всего лишь предпосылки для образования нации — в результате может ничего и не получиться. Например, в истории России существовали и существуют до сих пор объективные этнологические предпосылки для образования, как минимум, трех народов: северовеликорусов, южновеликорусов и сибиряков. Однако раскола русской нации не произошло. А украинцы, наиболее близкие в этнографическом плане с южновеликорусами, реализовались именно как самостоятельная нация. Поэтому существование любого народа в качестве обособленной от других общности — это, как правило, результат целой цепи немотивированных случайностей.
Алексей Миллер основывается именно на подобном, модернистском, понимании этноса как “воображаемого сообщества”, поэтому не случайно в своей работе он рассматривает именно вторую половину позапрошлого века, время царствования Александра II и Александра III, — наиболее важный для формирования новой украинской идентичности период. Тогда существовали два диаметрально противоположных понимания украинского этнокультурного начала — как локальной формы проявления “общерусской” идентичности («малороссийство»), и как самодостаточного и не зависящего напрямую от великорусского, белорусского и польского этнокультурного феномена (“украинство”). История русско-украинских отношений в XIX в. может быть рассказана двумя различными способами: в одном случае нация, подобно пробивающейся сквозь асфальт траве, неизбежно преодолевает все препятствия, созданные империей. В другом случае речь идет о том, как благодаря крайне несчастливому стечению обстоятельств, польская, австрийская или немецкая интриги, используя в качестве сознательного или неосознанного орудия немногочисленную и чуждую народным интересам группу украинских националистов, раскололи единое тело “общерусской” нации. По мнению Миллера, именно призма соперничества проектов наций — “большой русской” и украинской — наиболее адекватна для описания внутренней политики Российской империи в XIX в., для понимания логики развития исторических событий и поведения их участников.
Кем были бы украинцы, если бы победила “общерусская” идентичность, более или менее понятно — по «малоросской» модели развивались кубанские черноморские казаки. Будучи прямыми потомками запорожцев, они сохранили в достаточной степени украинскую традиционную обрядовую и материальную культуру, стереотипы поведения, национальную кухню, фольклор, отчасти даже язык, но, вместе с тем, они же явились (и по сию пору являются) в России наиболее последовательными сторонниками русской идеи (и на культурно-идеологическом, и на политическом уровнях), великорусской идентичности, российской государственности. Не случайно даже современная этнология один из великорусских субэтносов называет “украинским”. Итак, в XIX в. речь фактически шла о борьбе между двумя статусами — украинцев как этноса и малороссов как субэтноса “большой русской” нации.
Среди причин, помешавших полновесной реализации в XIX веке подобного “общерусского” ассимиляторского по отношению к украинцам процесса, следует выделить неумелую политику Петербурга, прямую некомпетентность чиновников в межэтнических вопросах, появление суперхаризматической фигуры Тараса Шевченко, а также недостаточный радикализм русификационных мер. Отсюда радикальный вывод Алексея Миллера о том, что история соперничества “общерусского” и украинского проектов национального строительства — это не столько путь успеха украинского национального движения, сколько цепь неудач русских ассимиляторских усилий (по ироническому замечанию автора, вся история России может быть рассказана как история плохого управления и его последствий). Фактически властью была выбрана именно британская, а не французская модель “коренизации”: первая предоставляла “нецентральным” нациям комплекс определенных культурных гарантий — вплоть до обучения в начальной школе на родном языке, вторая же напротив — предполагала тотальный запрет региональных языков и культур. Украинские историки, а еще чаще публицисты и журналисты, пишущие о русификационных мерах на Украине в XIX в., нередко ссылаются на “демократические традиции” этнической толерантности в “просвещенной Европе”. Миллер, вслед за немецким историком Андреасом Каппелером, убедительно доказывает, что антиукраинская политика Петербурга, несмотря на всю ее неэтичность и контрпродуктивность, в целом ни в какое сравнение не идет с политикой Лондона по отношению к ирландцам и шотландцам, Мадрида — к испанским баскам, а тем более с политикой Парижа по отношению к нефранкофонным жителям Франции (по официальной статистике, в 1863 г. одна четверть населения континентальной части последней не знала французского языка!). Общий вектор строительства официальным Петербургом “единой русской нации” в отношении украинцев напоминал “английскую” модель, тогда как Валуевский циркуляр 1863 г. и Эмский указ Александра II 1876 г., жестокие и бессмысленные с точки зрения поставленной задачи, воспроизводили именно “французскую” модель “коренизации”.
Украинские историки постоянно используют в полемике аргумент о жестокости репрессий официальной власти против членов Кирилло-Мефодиевского братства и участников украинофильского движения после Валуевского циркуляра 1863 г. Никоим образом не оправдывая подобных действий власти, Миллер обозначает общий контекст внутренней политики того времени. Так, в 1865 г. в Омске полиция раскрыла общество сибирских сепаратистов, выступавших за создание самостоятельного государства на пространстве от Урала до Тихого океана и, в сущности, мало чем отличавшееся от украинофильских организаций. Активисты движения были приговорены к срокам от десяти до пятнадцати лет каторги или крепости — совершенно немыслимое наказание для кирилло-мефодиевских “братчиков” или для “громадовцев” и “народовцев” в последующие десятилетия (по отношению к последним, как правило, ограничивались высылкой, ссылкой, краткосрочными арестами; жестоко репрессированному — сосланному в солдаты Шевченко вменялась в вину не столько его украинофильская деятельность, сколько оскорбление членов царской фамилии). Вообще же, в отличии от XX в., масштаб и качество репрессий против украинского движения в XIX в., по мнению Миллера, дает “немного оснований для использования мартирологических мотивов при описании русско-украинских отношений”.
Вопреки распространенному стереотипу, официальная власть отнюдь не была единой в проведении антиукраинских репрессий. Так например, длительное время ни Св. Синод, ни III отделение, ни Министерство народного просвещения не имели сколько-нибудь ясного представления о возможности допущения в начальную школу украинских учебников, министр народного просвещения Головин всячески противодействовал появлению циркуляра министра внутренних дел Валуева и поддерживал дело просвещения на “малорусском наречии”. Высокопоставленный чиновник флигель-адъютант императора полковник барон Корф к делу русификации украинцев предлагал подходить “творчески”: не запрещать украинские книги, а наводнить “малороссийские губернии” значительно более дешевыми книгами на “общерусском языке” (именно эта идея была реализована на Украине в конце 1990-х годов), не запрещать украинофильское движение, а усилить миграцию рабочей силы на украинские земли из Центра России. Главным механизмом русификации, по его мнению, должна стать железная дорога: “В настоящее время малороссийский народ видит связь с Россиею в царях, сродство в религии, но связь и сродство сделаются еще сильнее, еще неразрывнее… Путь к этому — железная дорога… Не одни товары движутся по этой дороге, а книги, мысли, обычаи, взгляды… Капиталы, мысли, взгляды, обычаи великороссийские и малороссийские перемешаются, и эти два народа, и без того так близко стоящие один от другого, сперва сроднятся, а потом и сольются. Пускай тогда украйнофилы проповедуют народу, хотя бы и в кипучих стихах Шевченки, об Украйне и борьбе ее за независимость, и о славной Гетманщине”.
Хороший момент в исследовании — попытка разобраться с этнотерминологией — всеми топонимами и этнонимами. А ведь именно этот вопрос — один из самых острых, вызывающих самые большие дискуссии и недоразумения. Конфликт “идеальных Отечеств” — официального проекта “общерусской нации” и украинского националистического — фактически привел и к терминологической войне. К сожалению, далеко не все понимают, что “Русь”, “Россия”, “Украина”, “Южная Русь”, “Малая Россия” и т.д., а также “русский”, “украинский”, “малорусский” — в разное время наполнялись совершенно неодинаковым смыслом и имели разные политические и идеологические оттенки. Так, в XIX в. в контексте официальной идеологии “русское” понималось как “восточнославянское”, под “русскими” понимались не только великороссы, но также белорусы и украинцы, иногда и червоннорусы. Власть следила за тем, чтобы “русское” не трактовалось исключительно как “великорусское”; при Советской власти этноним был “приватизирован” одним из народов, в связи с чем теперь из-за недопонимания возникают конфликтные вопросы — то ли о “городе русских моряков”, то ли о “матери городов русских”; предвзятое толкование того же слова дает различного рода ангажированным силам поле для политических спекуляций вокруг славянского исторического наследства. По этой же причине само слово “Украина” (в современном понимании) — и производные от него — во второй половине XIX в. воспринималось властью исключительно как крамольное, подрывающее основы империи: официально “Украиной” именовалась только часть Слобожанщины — Украино-Слободская губерния.
Рассматриваемая работа построена на известных и совсем неизвестных материалах, в том числе — из архивов Москвы и Санкт-Петербурга — инструкциях, докладных записках, переписке, которые практически недоступны для украинских исследователей. Да и мало у кого из пишущих об истории становления украинского самосознания в XIX в. возникает желание копаться в хитросплетениях административных интриг, в играх петербургской бюрократии стотридцатилетней давности.
Исследование “постороннего историка” Алексея Миллера может быть весьма полезным не только для академических ученых, но и для широкого круга заинтересованных и предвзятых читателей. Адептам современного украинского национализма книга покажет, что Российская империя вовсе не была исчадием ада и ее отношение к украинскому вопросу значительно трансформировалось во времени. Русских же националистов работа лишает комфортного стереотипа о конспирологическом происхождении украинской идентичности — о ее “ненатуральности” и “выдуманности” польскими, австрийскими и германскими врагами империи.
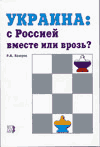 Книга Роберта Евзерова — об “актуальной истории” — о российско-украинских
политических и экономических отношениях последних десяти лет. Исследование основано
на тщательном мониторинге российской и украинской прессы (не случайно автор
в предисловии воздает хвалу двум московским библиотекам — украинской и Государственной
публичной исторической — больше всего ссылок на “Независимую
газету”, “Зеркало недели”, “День”, “Политические исследования”,
“Політичну думку”, “Політику і час”. Работа завершена в конце
лета прошлого года, так что в контексте стремительно развивающихся политических
событий последних месяцев она уже больше похожа на историческое исследование,
чем на анализ актуального политического процесса: Украина начала 2001 г. с прежней
Украиной, даже времен президентских выборов 1999 г., имеет всё меньше и меньше
общего.
Книга Роберта Евзерова — об “актуальной истории” — о российско-украинских
политических и экономических отношениях последних десяти лет. Исследование основано
на тщательном мониторинге российской и украинской прессы (не случайно автор
в предисловии воздает хвалу двум московским библиотекам — украинской и Государственной
публичной исторической — больше всего ссылок на “Независимую
газету”, “Зеркало недели”, “День”, “Политические исследования”,
“Політичну думку”, “Політику і час”. Работа завершена в конце
лета прошлого года, так что в контексте стремительно развивающихся политических
событий последних месяцев она уже больше похожа на историческое исследование,
чем на анализ актуального политического процесса: Украина начала 2001 г. с прежней
Украиной, даже времен президентских выборов 1999 г., имеет всё меньше и меньше
общего.
В концептуальном плане Евзеров основывается на идеях, по его собственному определению, “демократического евразийства”, к которому он относит работы Александра Панарина, журнал “Вестник Евразии”, проект “Евразийского Союза Государств” президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. “Евразийский интегризм” выстраивается у него на “единой многовековой истории, судьбе, традициях современного бытия и культурного наследия”. “Евразия” в его интерпретации лишается какого бы то ни было трансцендентного измерения, поэтому автору откровенно несимпатичны как классики евразийства 1920-х годов — из-за их антизападного и антиевропейского пафоса, так и современное “неоевразийство” в редакции Александра Дугина — из-за нематериалистической мотивировки исторического и политического процессов, а также из-за восходящего к Макиндеру тезиса об априорной “войне континентов” — постоянном геополитическом и цивилизационном противостоянии евразийского и атлантистского блоков, Великой Суши и Великого Моря. По мнению Евзерова, дугинский “метафизически-эсхатологически-мистический” вариант евразийства “ведет в никуда”.
Впрочем, геополитической теме отведено автором не так уж много внимания (к сожалению, не анализируется, а только упоминается “шедевр” украинских геополитиков-атлантистов — программа “Україна 2000 і далі: геополітичні пріоритети та сценарії розвитку”). Небезынтересно для российских читателей введение в интеллектуальный тезаурус фигуры ранее совершенно неизвестного в России украинского политического географа начала XX в. Степана Рудницкого и некоторых других политических мыслителей, задавших парадигмы украинского интеллектуально-политического развития в минувшем столетии.
Большое внимание Роберт Евзеров уделяет экономическим аспектам двусторонних отношений — и это самая интересная часть исследования. Для Украины “газовый” вопрос (вкупе с “нефтяным” и “электрическим”) — прямо-таки экзистенциальный — вопрос жизни и смерти. Более того, ни для кого не секрет, что все или почти все богатые люди на Украине составили свои состояния именно на манипуляциях с российским газом. История поставки энергоресурсов на Украину и их транзит через украинскую территорию на Запад —увлекательнейшая детективная история. Автор же по большей части превращает ее в классицистскую драму с обязательным моралите и порицанием порока — мол, нехорошо воровать чужой газ. Впрочем, отношения в области энергетики было бы интереснее описать не на основе признаний и саморазоблачений высших руководителей государства (вплоть до президента Кучмы), а посредством анализа финансовых схем, исследованием черного рынка энергоресурсов.
Автор фактически подходит к выводу, подробно обоснованному в недавней книге Андрея Паршева “Почему Россия не Америка?” (М.: Крымский мост, 2000) об априорной неконкурентоспособности на мировом рынке многих отраслей и российской, и украинской экономики именно из-за больших (в сравнении с западноевропейскими, американскими и азиатскими) затрат на производство, обусловленных геоклиматическими реалиями, и, соответственно, из-за их меньшей рентабельности. Книга “Украина: с Россией вместе или врозь?” может быть полезна как достойное введение в тему российско-украинских отношений, как полезное чтение для всех тех, кому небезразлична судьба и России, и Украины. Евзеров, конечно, не “посторонний историк”, так что ответ на вопрос “вместе” или “врозь” для него вполне очевиден. В работе не так много оригинальных выводов и оригинальных подходов. Но, по сути, автор и не ставит перед собою такой цели. Его главная задача — объяснить не слишком ангажированному, но любознательному читателю реальные предпосылки и мотивации взаимоотношений двух государств. К сожалению, эти отношения непросты и крайне политизированы как на официальном уровне, так и на уровне обывательского сознания — на недавней презентации книги в Культурном центре Украины в Москве дело чуть было не дошло до мордобоя между читателями, по-разному отвечавшими на вопрос, вынесенный автором в заголовок. Такой вот “конфликт интерпретаций”…
Андрей ОКАРА
![]()
![]()
![]()
 Дергачев
В.А. Геополитика. Киев: ВИРА-Р, 2000. — 448 с.
Дергачев
В.А. Геополитика. Киев: ВИРА-Р, 2000. — 448 с.
ГЕОПОЛИТИКА МАРГИНАЛЬНОСТИ
Года два назад в одной из статей в «Полисе» мною было высказано предположение, что культурная идентичность Российской империи во многом определялась не столько центром, сколько частью периферии, к которой в тот или иной момент оказывалось приковано геополитическое внимание российских политических кругов и общественности [Межуев 1999: 37]. Так, когда Россия продвигалась на Балканы, стремясь овладеть Константинополем и проливами, она воспринимала себя наследницей Византии, когда же на рубеже XIX и XX веков взор российской политической элиты устремился к Тихоокеанскому побережью и «стенам недвижного Китая» империя Белого царя (точнее, некоторые ее идеологи) постепенно начала осознавать себя «продолжательницей дела Чингисхана» по воссоединению Азиатского континента. Я попытался объяснить подобную зависимость от периферии сознанием оторванности России от своего духовного, задающего параметры культурной идентичности, центра и стремлением обрести его за пределами собственной территории, в чужих цивилизационных мирах. Однако теперь на нашем книжном рынке появилась книга, трактующая факт зависимости российского геокультурного пространства от его периферийных рубежей совершенно с иных позиций.
Основная тема вышедшей в прошлом году в Киеве книги украинского политолога, директора Одесского Института геостратегических технологий Владимира Дергачева (о других трудах этого ученого и деятельности возглавляемого им института можно прочитать на Сайте профессора Дергачева: www.dergachev.odessa-ua.net) — маргинальные пространства и их первенствующая роль в геоэкономике и геополитике. Российская империя, по мнению автора, поплатилась своим существованием за то, что не смогла использовать и даже сохранить узловые точки коммуникации с другими мирами. Так, Дергачев обусловливает распад советской империи ее неспособностью создать экономический и технологический форпост на Дальнем Востоке, аналогичный Калифорнии, и утратой геополитического присутствия в Азии (с. 295). Любопытно, что автор, весьма положительно оценивающий «евразийскую программу» своего земляка С.Ю. Витте, упрекает Россию в бездумных «бросках за горизонт», завершившихся потерей Русской Америки и Порт-Артура, а затем катастрофой русского Харбина (с.380). И сам Витте, и многочисленные критики его «дальневосточного курса» оценивали приобретение Россией Ляодунского полустрова и основание Порт-Артура как типичный пример рискованного и неоправданного «броска». Однако с сужением границ страны для взора стратегов и геополитиков как будто раздвинулись границы того самого «российского горизонта», бросок за который мог бы быть чреват утратой стратегических для интересов государства позиций. Поэтому переоценка перспектив «дальневосточной политики» России конца XIX–начала XX вв. украинским геополитиком, ратующим за воссоздание экономического моста между Западом и Востоком, мне кажется не только небезосновательной, но и симптоматичной.
Геополитическая прогвыпускерамма профессора Дергачева покоится на теории рубежной коммуникативности, систематически развернутой им в данной монографии, а также в серии других готовящихся к выходу изданий, аннотация к которым помещена на трех последних страницах рассматриваемой нами книги. Попытаюсь изложить суть этой теории своими словами. Предметом исследовательского интереса автора являются контактные зоны геополитических, геоэкономических, социокультурных и других образований. Такого рода зоны, согласно авторской концепции, обладают «высокой энергетикой», которая возникает в силу осуществляемой на этих рубежных пространствах экономической и социокультурной коммуникации. Поскольку формы и способы коммуникации бывают самые разные, и поля их не совпадают друг с другом, то по существу вся обитаемая территория Земли представляет собой совокупность многочисленных геострат, то есть «многомерных коммуникационных пространств». Однако автор, как геополитик, обнаруживает еще и особые пространственно-временные рубежи, на которых возникают, по его терминологии, геомары — энергоизбыточные граничные поля (с.103). Энергия геострат на геомарах как бы «удваивается». Автор активно использует концепцию пассионарности Л.Н.Гумилева. Пассионарность для Дергачева — не стадия развития этноса, а изначально присущая ему характеристика, обусловленная его маргинальным положением (типичный пример маргинальных пассионариев — русские казаки). Ученый географически локализует феномен пассионарности в местах разломов цивилизационных тектонических плит, которые, по мнению автора, вовсе не случайно совпадают с зонами повышенной сейсмической активности.
Крупнейшая маргинальная зона в Евразии возникла в «осевую эпоху» между 800 и 200 гг. до н. э. Автор называет ее ЕВРАМАРом (противополагая Римленду — МОРЕМАРУ, включающему в себя береговую зону морей и океанов и континентальный шельф), который он характеризует как Великую Евразийскую суперэтническую маргинальную зону (с.114). Если в МОРЕМАРЕ наблюдается максимальная концентрация океанической и морской жизни, то его сухопутный аналог выделяется крайней культурной насыщенностью. ЕВРАМАР — пространство, где в результате столкновения и диалога древних цивилизаций — сформировались основные религии современности — христианство, иудаизм, ислам, а также древняя религия Вед, лежащая в основе индуизма. ЕВРАМАР не имеет фиксированных границ, «находится в вечном движении» (с.115), и четко очерченной географической конфигурации. Рубежи ЕВРАМАРа несколько отличаются от границ выделенного Вадимом Цымбурским (о книжке последнего «Россия — Земля за Великим Лимитрофом» см. рецензию Дмитрия Замятина во втором нашего «Библиобзора») Великого Лимитрофа. Дергачев скорее следует при начертании маргинальной зоны Евразии автору самого термина «Великий Лимитроф» воронежскому историку Сергею Хатунцеву, включая в ЕВРАМАР наряду с Маньчжурией, Центральной Азией, Восточной Европой также и весь Ближний Восток. Дергачев, вообще, стремится расширить маргинальную зону до максимально возможных пределов, чтобы ввести в нее чуть ли не все экономические и культурные центры человечества, включая Вену, Константинополь, Иерусалим, Мекку, Рим, даже Пекин (с.116). Однако такое расширение усиливает верификационную силу гипотезы за счет тавтологизации ее основного тезиса (получается, что коммуникация происходит именно на ЕВРАМАРЕ, а также центры коммуникации находятся на ЕВРАМАРе, поскольку ЕВРАМАР — везде, где идет коммуникация). Однако посредством такой якобы тавтологии автор достигает существенной для себя цели: он не только относит Восточную Европу (лимитрофное пространство, разделяющее евразийский Хартленд и евроатлантическое Приморье) и, в частности, Украину к ЕВРАМАРу, но и одновременно уравнивает их в геополитическом статусе с пространством Средиземноморья. А такое соотнесение позволит ученому в последней главе книги рассуждать о возрождении Киева как духовного центра восточных славян, а также о необходимости связанного с этим проектом перенесения «акцента славянской консолидации из плоскости российской «великодержавности» к разделению духовной и политической власти» (с.400). Как мы уже знаем, для автора всякая периферия парадоксальна, поэтому пограничность Украины в Евразии (ее «украинскость», окраинность) одновременно обеспечивает ей центральное в цивилизационном отношении положение.
Онтологические посылки концепции Дергачева, которую можно было бы назвать теорией «евразийского Римленда», служат обоснованием развиваемой автором геоэкономической программы, смысл которой состоит в переосмыслении экономической и политической роли маргинальных этносов и диаспор. О значении «цивилизационных разломов» или маргинальных зон для современной картины мира мы знаем от Хантингтона. По мнению американского ученого, евроазиатский континент должен быть поделен без остатка на цивилизационные пространства с целью снижения конфликтогенного потенциала линий разломов. Кстати, позиция украинского исследователя полностью противоположна хантингтоновской. Если я правильно понял автора, то политика современного Запада, пытающегося силой «внедрять» права человека на рубежах евразийских цивилизаций неприемлема для него прежде всего тем, что посредством такого «внедрения» она сглаживает существующие геополитические разломы и тем самым препятствует «межцивилизационному диалогу» с его «высокой энергетикой» (с.232). Иначе говоря, Дергачев в отличие от Хантингтона стремится предохранить «рубежные народы» от доминирования над ними наднациональных стандартов и норм.
Идеальным примером народа-маргинала, по мнению автора, являются древние греки, культуре и социальному устройству которых он посвящает один из параграфов книги. Причину необычайного культурного взлета Эллады Дергачев усматривает в том, что «в микрокосме Древней Греции пересеклись в пространстве и времени крупнейшие энергонасыщенные маргинальные зоны Земли: природная «суше — море» (МОРЕМАР) и евразийская социокультурная (ЕВРАМАР)» (с.164). При описании «духовных горизонтов» древнегреческой философии автор указывает на отсутствие у восхищающих его греков «чувства социальной справедливости — заботы об угнетенных и обиженных». Древние греки, продолжает ученый, «не были гуманистами в современном понимании этого слова» (с.167), они «позитивно» относились к войне и считали разумным и справедливым институт рабства. Политическая практика мирового сообщества в целом и агрессия против Югославии в 1999 г., в частности, отвергается одесским исследователем, похоже, не столько за «интервенционизм» и «двойной стандарт», сколько за чрезмерную «гуманистичность» и универсализм. Неприятие ученого вызывает стремление мирового сообщества подчинить мир ЕВРАМАРА одной — якобы наиболее справедливой — цивилизационной норме.
Впрочем, не менее критично автор относится и к возможному российскому имперостроительству, сборке постсоветского пространства под каким-нибудь неоевразийским геополитическим проектом. Предельно четко отрицательное отношение ученого к геополитике «больших пространств» отразилось в тексте Дергачева «Раскаленные рубежи», размещенном на его личном сайте (см. выше), где можно прочесть следующее:
«Механическая замена безликого и бесполого "псевдонима" Российской империи - СССР на аббревиатуру из трех букв - СНГ в реальной действительности оказалось чистой формальностью. Необходимо преодолеть химеру "общеевропейского дома" и западнического эпигонства властной элиты. Требуется отказаться от претензий на исключительность, избранность "Третьего Рима", реинтеграции постсоветского пространства в унитаристской форме "плавильного котла", так и от комплекса "вечно догоняющей" страны».
Автор, позиционирующий себя в качестве евразийца, в принципе, выступает за единство Евразии как пространства межцивилизационной коммуникации, однако он настойчиво подчеркивает, что Россия, потеряв свои форпосты в Азии, утратила функцию интегратора и статус рубежного этноса и ни на какие масштабные проекты, связанные с возрождением великодержавности, более не способна. Поэтому (вновь цитирую «Раскаленные рубежи», где автор позволяет себе говорить более откровенно) «могущество России будет прирастать способностью возродить рубежную коммуникативность евразийского пространства на основе человеческой энергии (пассионарности)».
Таким новым «полюсом пассионарности» для автора является «новое русское зарубежье», проявляющие политическую и деловую активность социокультурные маргиналы постсоветского пространства, владеющие русским языком и способные при активизации ресурсов русской столицы и крупнейших русских городов создать «единое информационное поле маргинальной культуры», которое и позволит в XXI в. России возродиться «ширью». Российская провинция, переживающая как экологическую, так и нравственную катастрофу, «консолидирующую роль в становлении российского суперэтноса» играть уже не может.
Учитывая все сказанное, легко восстановить логику геоэкономического проекта Дергачева. Смысл человеческого существования и человеческой культуры, по его мнению, состоит в общении и диалоге, поэтому те человеческие группы, которые в силу особых исторических условий проживают в зоне предельного соприкосновения больших цивилизационных ареалов с культурной точки зрения обладают наибольшей значимостью. Поскольку Хартленд Евразии в целом перестал быть регионом межкультурного общения, роль такого должны выполнить окраины Хартленда, а еще в большей степени маргинальные группы этих окраинных пространств, каковыми в настоящее время могут считаться представители русскоязычной диаспоры в Ближнем Зарубежьи, на поддержку которых и должна ориентироваться политика «нового евразийства».
Как геоэкономическая стратегия (ценность которой заключается прежде всего в том, что она — не единственная) данный проект, наверное, вполне рационален и практически целесообразен. Беда в том, что в российской геоэкономике существует очень определенная антигеополитическая установка на переформатирование российского пространства с целью выделения среди его жителей некоего привелигированного меньшинства с последующим отождествлением с ним всей России. Эту процедуру я бы назвал обратной геополитической синекдохой, когда под целым представляют его часть, когда интересы последней отождествляют с интересами целого. При осуществлении подобной метафорической операции сразу же происходит серьезная логическая ошибка: какую-то часть населения признают наиболее значимой для целого, так наз. «элитой», затем утверждается, что интересы ее представителей сегодня приоритетны для всего общества. Но тут же — в противоречие с исходной посылкой — объявляется, что важнейшая задача всякого социума есть воспроизведение «элиты» и что на достижение именно этой цели и следует тратить имеющиеся у государства ресурсы. И, наконец, последний шаг — выдвижение тезиса, что традиционную идентичность «общества» нужно пересмотреть и объявить «обществом» только «элиту» или, в лучшем случае, ту социальную инфраструктуру, которая способствует ее взращиванию и укреплению. Несложно заметить, что автор рассматриваемой нами книги, не впадая прямо в указанную ошибку, балансирует на острой грани, соскальзывание с которой грозит путаницей отождествления России/Евразии с евразийскими маргиналами, с русскоязычной диаспорой, — с теми, кого философ Петр Щедровицкий назвал «Русским Миром».
Наконец, чтение книги В.А.Дергачева иногда заставляет вспомнить предупреждение Михаила Ильина об «искушении междисциплинарностью», ибо методологическая ошибка, которой чревата «геополитика маргинальности» — это смешение двух функциональных срезов: политического и культурного. С культурной точки зрения, диалог и коммуникация — возможно, и в самом деле предпочтительнее иных способов поведения, например, изоляционистскому уходу от всех контактов с другими мирами ради сохранения собственной идентичности. Однако далеко не факт, что коммуникация может быть приоритетной целью политики. Чтобы понять, к каким абсурдным выводам могут привести в совокупности две указанные логические ошибки, примем на веру тезис о преимуществе рубежной коммуникативности и, соответственно, о пассионарном статусе тех людей, которые в ней участвуют, и ответим себе на вопрос, к какой профессиональной группе населения все сказанное может относиться в первую очередь. Конечно, в контактах с представителями других народов участвуют прежде всего дипломаты. Не случайно, скажем мы, дипломатами были такие выдающиеся люди, как Бомарше, Грибоедов, Тютчев, Константин Леонтьев, Чингиз Айтматов и многие другие, принесшие славу и успех своей Отчизне. Отсюда следует, что целью государственной политики должно стать становление особой касты дипломатов, всемерное усиление ее политических и экономических позиций. В будущем же, когда глобализация окончательно подорвет целостность национальных государств, либо все люди станут дипломатами, либо субтерриториальные группы дипломатов образуют новые квазигосударственные сообщества. И российскому государству, исходя из таких абсурдных предположений, уже сейчас следует позаботиться о том, чтобы его дипломатический корпус был самым влиятельным и могущественным, ибо в XXI в., когда вся остальная Россия исчезнет в необъятном евразийском пространстве, подлинно русскую идентичность сохранят лишь русскоязычные послы и торговые представители, обретающие пассионарную энергию на дипломатическом ристалище в чужеземьи. Из вроде бы вполне правильных посылок мы пришли к совершенно нелепым заключениям. А почему? Да потому, что и политика, и культура как социальные системы имеют собственные критерии и принципы функционирования и политические реалии нельзя оценивать, руководствуясь приоритетами культуры, также как культурные, исходя из императивов политики. Нельзя к тому же в современной политике целое подчинять части, но только часть — целому.
Хочется добавить, что критические замечания не отменяют ценности этой в целом умной и хорошей книжки, где много верного и интересного сказано о причинах успеха свободных экономических зон в Китае и Ирландии и, напротив, об ошибках при создании СЭЗ украинского руководства, о необходимости сохранения русскоязычной культуры Украины и изначальной порочности замысла провести евразийский экономический мост в обход России. Критику вызывает лишь та тенденция противопоставления ресурса инициативы ресурсу солидарности, которая в последнее время стала почти что родимым пятном всех российских геоэкономических проектов и от которой, увы, не свободна и «геополитика маргинальности».
Межуев 1999: Межуев Б.В. Моделирование «национального интереса» (На примере дальневосточной политики России конца XIX — начала XX вв.) // «Полис», 1999, №1
Борис МЕЖУЕВ
![]()
![]()
![]()
 Шкіль
Андрій. Вітер імперії. Збірка статей з геополітики. Львів: Євразія, 2000. —
48с.
Шкіль
Андрій. Вітер імперії. Збірка статей з геополітики. Львів: Євразія, 2000. —
48с.
(ШкильАндрей.Ветер империи. Сборник статей по геополитике. Львов: Евразия, 2000.)
КИЕВОЦЕНТРИЗМ КАК НОВАЯ РЕДАКЦИЯ “РУССКОЙ
ИДЕИ”
Идеологи УНА-УНСО обвиняют Россию в вестернизации
Украины
В России подобного рода небольшая брошюрка едва ли способна вызвать серьезные эмоции: книг по геополитике за последние несколько лет вышло не так уж и мало. На Украине всё несколько иначе: отсутствие на протяжении столетий собственного украинского государства привело к серьезному ослаблению государственнического мышления, откуда и проистекают сложности с мышлением геополитическим.
Автор рассматриваемой работы является, кроме всего прочего, руководителем и главным идеологом УНА-УНСО, а также редактором журнала “Націоналіст”. Прежде лидером организации был Дмытро Корчинский, покинувший ее полтора года назад без объяснения причин.
Андрей Шкиль интересен прежде всего своей редкой для современной Украины бескомпромиссностью в стратегических вопросах — неприятием США как фактора глобального доминирования, неприятием однополярного мироустройства, неприятием прозападнического и пронатовского курса украинской внешней политики, проводимого современной властью.
Любопытна и оценка Шкилем роли России в украинской истории. Так если главная претензия большинства идеологов украинского национал-либерализма и национализма к России состоит в том, что “дикая”, “деспотическая”, “азиатская” страна свернула Украину с “демократического” пути развития и оторвала от остальной Европы, то автор обозреваемой книги (как, впрочем, и другие идеологи УНА-УНСО) предъявляет “северному соседу” прямо противоположные претензии. России, по его мнению, начиная с времен Петра I, занималась вестернизацией Украины, навязывая ей чуждые парадигмы развития и уничтожая украинскую самобытность и цивилизационную самодостаточность: “Западные помои неслись на Украину с двух сторон: с Запада, что не удивительно, и из Москвы, что в принципе удивляет. Или должно удивлять. Мода на английский язык, к примеру, в Галичину пришла не из соседних Польши или Словакии, а из Москвы и Ленинграда”.
Шкиль также обвиняет Россию в постоянной готовности к сотрудничеству с Западом: “Не напоминает ли нынешняя ситуация в России Петровскую эпоху? Россия слаба и беззащитна, но не согласна идти “под Киев”, зовет западных “спецов”, чтобы с их помощью повалить праматеринское государство, “Святой Киев”, и построить на своей территории тоталитарно-колонизаторское государство, a-la USA… Истинным оберегом славянского очага была и будет Украина. Антиславянские российские силы, как раз по заказу Запада и США, пытаются уничтожить Украину”.
Пишет он и об имперской миссии Украины: “Власть тех, кто спекулировал идеей славянского единства, закончилась. Началась эра возрождения старых традиций, возвращения к истокам. Все славянские реки начинались в Киеве, всё величие славян спрятано там, всё величие славяно-арийского духа сохранилась в украинцах… Цель Украины, как и в прошлом, не простая: строить свой дом и следить, чтобы к соседям не залезли грабители. Это и есть задание имперской державы”.
Для российского политического сознания наибольший интерес может представлять идеология киевоцентризма — альтернативный московскому вариант собирания славянских земель (в том числе и отпавших от Москвы российских регионов) вокруг древней столицы. Именно Киев, по мнению автора, способен обеспечить социально-экономическую “модернизацию без вестернизации”.
В некоторых вопросах украинский теоретик развивает подходы Александра Дугина, обозначенные в “Основах геополитики” (например, говоря вслед за российским коллегой о непростом соотношении “мондиализма” Френсиса Фукуямы и “атлантизма” Самуэля Хантингтона). Конечно, книжку Шкиля не сравнить по масштабу и основательности с почти тысячестраничным учебником Дугина. Впрочем, автор и не пытался дать исчерпывающее представление о геополитике как систематической теоретической дисциплине — свою главную цель, судя по всему, он видел в правильной расстановке “акцентов” украинской геостратегии.
Андрей ОКАРА
![]()
![]()
![]()
 Оболенский
Д. Византийское Содружество Наций. Шесть византийских портретов. М.: Янус-К,
1998. — 655 с., 32 с. ил.
Оболенский
Д. Византийское Содружество Наций. Шесть византийских портретов. М.: Янус-К,
1998. — 655 с., 32 с. ил.
ГЕОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВИЗАНТИИ
"Оптические
приборы" сэра Димитрия Оболенского
Русскоязычная византинистика пополнилась еще одной книгой. Несмотря на то, что три года назад основная работа, вошедшая в нее, издана в оригинале, на английском языке, еще в 1971 г., значение публикации русского издания трудно переоценить. Это событие выходит за рамки византинистики — оно крайне важно для становления относительно новой в русской исторической традиции дисциплины — геоистории. Исследование русского эмигранта и английского ученого очень сильно отличается от того, что мы привыкли считать византинистикой: скрупулезные историографические штудии, глубокие частные исследования, иногда налет славизма, славянофильства или православия. "Оптика" Димитрия Оболенского другая, она соединяет в себе одновременно как микроскоп, так и телескоп. Впервые мы можем увидеть византийский геополитический и геокультурный ландшафт, пространство Византии становится рельефным, "видится на расстоянии".
Удачной оказалась и введенная Оболенским модель Содружества Наций, скопированная в первом приближении с Британского Содружества Наций. Она позволила ученому нащупать скрепы, соединявшие Византию с множеством народов и культур, которые она притягивала. Вполне естественно, что при более детальном изучении этих скреп потребовались новые насадки и объективы, но свою роль первичного приближения к объекту и "поимку" собственно предмета исследования данная модель несомненно выполнила.
Пространство Византии — каким оно сформировалось за тысячу лет — оказалось очень пластичным и реактивным. Оно втягивало в себя венгров, половцев, печенегов, болгар, чехов, сербов, хорватов, русских, скандинавов, румын, армян, грузин. Геополитические пульсации византийского пространства, связанные с нашествиями различных народов, привели к очень тонкой структуризации пространства от ядра к периферии. Административно-территориальная организация ядра византийского государства, создание фемов на вновь завоеванных территориях, иерархическая система византийских титулов и обращений к разным союзным властителям, расчленение периферии на несколько специализированных геополитических зон (например, Северное Причерноморье) — все это способствовало политическому "долголетию" Восточной Римской империи.
Характерно, что народы, которые попали в культурную и политическую орбиту Византии, на пиках своего политического подъема без всяких сомнений заимствовали все геополитические инструменты своего "патрона". Так поступили, в первую очередь, болгары и сербы, которые в XIV в. даже столкнулись между собой в попытке как можно быстрее завладеть имперским наследием Константинополя. Интересно, что идеальным центром имперского господства на Балканском полуострове был город Скопье, и в период сербской экспансии он чуть было не стал таковым. Сам же центр Византии — Константинополь — находился как бы на периферии различных географических регионов, на которых Византия проводила свою имперскую политику — Балканского полуострова, Малой Азии, Причерноморья. Геополитическое пространство Византии как бы вывернуло наизнанку физическую географию подвластных ей территорий.
Геокультурное могущество Византии возрастало в противофазе геополитическому. В той мере, в какой постепенно сокращалось геополитическое пространство Восточной Римской империи, расширялось его геокультурное пространство, существование которого оказалось куда более долговременным. В период своего наибольшего могущества Византия политически не оказывала серьезного влияния на Русь, но по мере "дряхления" Константинополя его культурное влияние усиливалось. Даже после падения Византии московские князья долго не решались посягнуть на права константинопольского патриарха, но и после учреждения московского патриархата в 1589 г. чин московского патриарха ставился ниже глав других православных церквей.
Геокультурное пространство Византии было, по существу, еще более пластичным и гибким, нежели геополитическое. Оно продолжало функционировать в автономном режиме и после падения Византийской империи, хотя основные культурные связи Византийского Содружества Наций были как бы отжаты, отодвинуты Оттоманской империей на север Балкан и на Русь, в пределы Сербии, Румынии, Молдавии и Московского государства. Это геокультурное пространство имело, в отличие от геополитического, довольно "мягкую" структуру: внутренние культурные границы представляли собой, скорее, ряд переходных геокультурных зон — таковой, например, была культурная граница между ареалами распространения восточносербского и западноболгарского искусства — прочертить ее в виде линии на географической карте невозможно. Основными проводниками геокультурного влияния Византии были, естественно, ее церковные иерархи, поставляемые на периферию православного мира. По образному замечанию одного из современных греческих историков, как указывает Д. Оболенский, византийские епископы XII в. представляли собой людей "двойного естества и двух языков".
Кроме служителей церкви исключительно важную роль (в качестве своего рода "кровеносной системы" византийского геокультурного пространства) играл древнецерковно-славянский язык, созданный как бы по заказу Византии для нужд ее геокультурной периферии. Со временем этот язык в немалой степени поспособствовал сохранению и консервации византийского культурного наследия. Византийское геокультурное пространство было во многом космополитическим: на Афоне уживались вместе греческие, русские, сербские, румынские монахи, а различного рода переписчики и переводчики священных книг православия на национальные языки создавали цепь эффективных культурных коммуникаций, которые пронизывали это пространство, "насыщали" его и делали более "плотным".
Геокультурное и геополитическое пространства были хорошо взаимосвязаны. Естественное сращивание светской и духовной власти в рамках Византийского Содружества Наций привело к формированию Византией своеобразного метаполитического "мессиджа" — к обретению ею идеи Вселенской Восточной Римской империи. Наиболее четко эта идея была оформлена в послании вселенского патриарха Антония московскому князю Василию I в 1393 г. После падения Византии Московская Русь очень удачно "перехватила" этот "мессидж", но, как метко замечает автор, русская внешняя политика следовала в реальности не декларируемой идее "Москва — Третий Рим", а, скорее, концепции "Москва — второй Киев". Во внешнеполитическом плане Московское государство очень быстро отошло от византийского наследства, чему подтверждением может служить судьба Максима Грека и его идей на Руси, вполне закономерная, по мнению ученого. Отторжение идей Максима Грека и его длительное заключение — наглядное проявление русской Realpolitik, которой, по сути, не было дела до захваченного турками Константинополя.
Византийское геокультурное пространство было, вполне очевидно, очень неоднородным — его периферия отличалась известным религиозным синкретизмом, а процессы аккультурации проходили достаточно медленно. Так, описание амулета, найденного в 1821 г. возле Чернигова (предполагается, что он мог принадлежать Владимиру Мономаху), наглядно иллюстрирует как слияние и взаимодействие языческих и православных традиций, так и славянско-греческое двуязычие. Сам же Владимир Мономах, портрет которого удался ученому, может служить олицетворением процесса медлительного, подспудного и неявно выраженного расширения культурного пространства Византии.
Книгу Димитрия Оболенского следует отнести к тому же культурному и научному полю, которое определяется прежде всего работами школы "Анналов", да и позднейшими сочинениями Иммануила Валлерстайна и Андре Гундер Франка (хотя они, конечно, более "экономизированы"). Поэтому выходом в свет этой книги может начаться процесс постепенного заполнения значительной лакуны в гуманитарной науке, сохраняющейся в силу, с одной стороны, недостаточного знания восточноевропейского и византийского материала многими западными геополитиками и геокультурологами, а, с другой, — пока слабой "освоенности" необычного геоисторического инструментария отечественной исторической традицией.
Дмитрий ЗАМЯТИН