


|
|
||
 |
 |
 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Выпуск от 26.12.2000 "Политическая мысль в сборниках и антологиях"
В выпуске:
О свободе. Антология мировой либеральной мысли (I половина XX века). M., 2000.Классический французский либерализм: Сборник.Пер. с французского М.М. Федоровой. М., 2000.
![]()
![]()
![]()
![]()
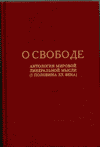 О
свободе. Антология мировой либеральной мысли (I половина XX века). — М.: Прогресс-Традиция,
2000. — 696 c.
О
свободе. Антология мировой либеральной мысли (I половина XX века). — М.: Прогресс-Традиция,
2000. — 696 c.
Быть ли либерализму либерализмом?
Сегодня, когда либерализм одерживает одну победу за другой, трудно представить время, когда казалось, что дни либерализма сочтены или даже он и вовсе “умер и погребен”. Я имею в виду конец XIX и особенно первую половину XX в., когда соблазн социализма и коммунизма грозил не оставить от либерализма камня на камне. По счастью, последний выжил и оказался куда живучее своих противников. Он не только вернул утраченное, но и неизмеримо расширил свое влияние. Но остался ли либерализм либерализмом? Не пришлось ли ему, дабы выжить, пожертвовать самим собой, изменить самому себе? Не слишком ли много уступок вынужден был он сделать, дабы устоять под мощным напором современности?
Рецензируемая книга дает возможность по крайней мере отчасти на эти вопросы ответить. Она содержит различные по объему выдержки из сочинений западных и русских либералов первой половины XX в., большинство которых посвящено по сути одной и той же проблеме: как обновить либеральную теорию, чтобы она отвечала насущным требованиям современности? Или: каким должен стать либерализм в условиях, когда ему угрожают социализм и коммунизм? Правда, русский либерализм эта проблема пока еще не волнует. У него совсем другая забота, а на остальное внимания просто не хватает. Но об этом позже.
Антология открывается первыми главами книги “Либерализм” (1902), автор которой – Эмиль Фаге. Со свойственной французам решительностью Фаге на первых же страницах заявляет о том, что “человек рожден рабом” и бросается в бой с теорией естественных прав человека. Что такое права? Как можно говорить о том, что у человека есть права, которыми он наделен с самого рождения? Право существует лишь постольку, поскольку человек вступил в договор, поскольку он дал то или иное обязательство. Вне договора право не существует, и потому непонятно даже, что означает выражение “право человека”.
Начало столь же интригующее, сколь и парадоксальное: как можно быть либералом и не понимать выражения “право человека”? Как можно писать книгу под названием “Либерализм” и не стесняться выражений типа “именно общество обладает всеми правами”? Или еще хлеще: “его [общества] право неопределенно, поскольку оно не ограничено”. Вот уж воистину “бес попутал”, и у нас есть все основания подозревать Фаге в том, что он желает наполнить старые меха либерализма вином доморощенного этатизма. Так это или не так, и если не так, удалось ли Фаге в конце концов вернуться в лоно более или менее пристойного либерализма (при таких-то исходных принципах!) – об этом читатель пусть судит сам.
Следующая крупная выдержка – из книги Леонарда Гобхауса (1911). У нее такое же незамысловатое название – “Либерализм”, но “французским штучкам” в духе Фаге в книге англичанина не место. Конструктивен либерализм или деструктивен? Преходящ или непреходящ? Выражает ли нечто непреложное или порожден особыми (и ныне изменившимися) обстоятельствами? Вот вопросы, на которые берется ответить Гобхаус, а на такие вопросы можно отвечать только серьезно.
Уделив внимание основным идеям и истории либерализма, автор переходит к его сущности. Точнее, он стремится подвести под либерализм фундамент “органической” (и одновременно “гармонической”) концепции общества, по которой общество – это организм, а люди – его члены. Концепция не новая и ведет к закономерному выводу о том, что “в вопросе о правах и обязанностях… отношение индивида к обществу есть всё”. А также о том, что “его права и его обязанности одинаково определяются общим благом”. Гобхаус осознает тот факт, что эти выводы звучат не слишком либерально, но не боится обвинений, ибо призывает нас не забывать и о другом. А именно: “…Общее благо, которому подчинены права каждого человека, есть благо, в котором каждый человек имеет свою долю”. И поэтому не следует опасаться того, что в органически-гармоническом обществе личное благо будет принесено в жертву общему.
Пусть так, но не слишком ли опасное основание закладывает Гобхаус под либерализм? Пусть так, но не бочка ли с порохом концепция, которая отождествляет общество с организмом? Ведь и абсолютизм с тоталитаризмом любят заигрывать с органической концепцией общества. Ведь не только к либеральным, но и тоталитарным выводам ведет принцип “человек – клетка организма”. И не случайно классический либерализм избегал подобных уподоблений, рассматривая общество как результат действия отдельных людей. И не случайно он учил о договорном происхождении общества (государства), толкуя его как продукт согласия людей.
Если даже родину либерализма Англию потянуло в объятия органической концепции общества, то что говорить о Германии. “Свобода…, – пишет Эрнст Трёльч в статье “Немецкая идея свободы” (1916-1917), – представляет собой свободную, сознательную, исполненную долга самоотдачу целому, уже существующему как следствие истории, государства и нации… Эта свобода больше состоит в обязанностях, чем в правах, или точнее в правах, которые одновременно являются обязанностями. Индивиды не составляют целое, а отождествляют себя с ним. Свобода является не равенством, а службой индивида на своем месте в подходящем для него органе целого”. И все бы ничего, если бы не одно “но”: ведь это типично тоталитарное понимание свободы (см. о нем в статье автора этих строк: Три понятия свободы // “Полис”, 1998, № 5), и остается только догадываться о том, как Трёльч попал в антологию либеральной мысли.
Пожалуй, самый ценный раздел антологии – отрывки из книги Гвидо Де Руджеро “История европейского либерализма” (1927). Эта книга до сих пор считается лучшим пособием по либеральной теории и, по-видимому, действительно наиболее оптимально справляется с задачей осмысления и обновления либерализма.
Есть, говорит Де Руджеро, Свобода, а есть свободы. Первая выражает сущность человеческой личности, а вторые – права, которыми человек обладает в обществе. Свобода и свободы дополняют и подкрепляют друг друга, а если не дополняют – выхолащиваются и вырождаются. Что такое свободы без Свободы, как не привилегии и монополии? Что такое Свобода без свобод, как не пустая форма и абстракция? Для французов времен революции свободы англичан были не более чем привилегиями, которыми меньшинство пользовалось в ущерб большинству. Для их современников англичан свобода французов (из Декларации) была абстрактным, лишенным гарантий правом, которое низводило индивидов до неразличимых атомов и тем превращало их в легкодоступные жертвы деспотизма.
Ранний либерализм выступал против экономических и социальных функций государства, полагая, что индивид лучше решит проблемы, в которых он лично заинтересован. Однако постепенно государство стало все чаще вмешиваться в экономические отношения, дабы предотвращать разрушительные последствия экономической борьбы. Оно стало ограничивать волю индивидов, но эти ограничения не ослабили, а наоборот усилили свободу. Свобода всех, а не свободы привилегированного меньшинства, свобода как доступная каждому позитивная возможность – вот цель современных либеральных правительств. Государство осознало, что и оно обязано вносить свой вклад в становление и развитие личности, в увеличение и расширение ее возможностей.
Не скажу, что Де Руджеро решил задачу обновления либерализма безупречно. Не скажу, что его версия либеральной теории не содержит существенных изъянов. Однако главное ему все же удалось – указать направление, в котором лежит будущее либерализма: обогащение понятия свободы, насыщение его новым, отвечающим духу времени содержанием. Де Руджеро понял все правильно: сила либерализма – в богатстве его идеи свободы. И чем богаче станет эта идея, тем непобедимее будет либерализм в борьбе со своими идейными противниками.
Я оставляю без внимания остальных авторов антологии (среди которых Дж. М. Кейнс, Б. Кроче, Д. Дьюи, Ф. Хайек, Б.Н. Чичерин, П.И. Новгородцев), чтобы в заключение поделиться впечатлением от чтения русской части книги. Впечатление, скажем прямо, грустное. Бедный русский либерализм! Бедные русские либералы! Чем надо прогневить Господа, чтобы он послал им такое невезение? За какие грехи Он осудил русских либералов бороться за свободу в обществе, всерьез зараженном нигилизмом и социализмом? Зажатые меж двух огней, страшась анархии пуще самого самодержавия, ну куда, куда они могли податься, как не к той же самодержавной власти, против которой, как либералы, должны были вести борьбу? Вот уж жребий, которому не позавидуешь. Бороться с властью, когда на уме разрушить все до основания, ратовать за “буржуазные” свободы, когда буржуазии вынесен смертный приговор – значит заранее обрекать себя на поражение, значит с самого начала ставить себя в положение, в котором что ни делай – все равно соглашатель и предатель.
Теоретически русский либерализм могло спасти двоякое: здравомыслие верховной власти, приручение рабочего движения. Первое от либералов не зависело и если бы случилось, то лишь с неба словно манна небесная. Второе они могли бы попытаться сделать, но лишь если бы увидели в рабочем движении неотвратимое веление времени. Увы! Озабоченные классическими проблемами либерализма (произвол власти, отсутствие свобод и т. п.), где им было размышлять о проблемах неклассических – тех, о которых и западный либерализм еще только начинал задумываться? Хорошо было либералу там, на Западе, где решив первоочередные задачи, он мог спокойно заниматься остальными. Но что было делать либералу тут, в России, где на остальное внимания просто не хватало? Поразительно, но факт: в глубоком и обстоятельном анализе российской действительности накануне XX в., Б.Н. Чичерин даже не упоминает о рабочих! Там есть крестьяне и помещики, профессора и студенты, но о рабочих – ни слова! И тогда что удивляться выводу, который делает русский либерал за пять лет до первой русской революции: “Нельзя ожидать и каких-либо серьезных революционных движений в России. Почвы для революции у нас нет…” Впрочем, в другом своем предсказании Чичерин оказался более прозорливым: “Здание, воздвигнутое Александром II, должно получить свое завершение; установленная им гражданская свобода должна быть закреплена и упрочена свободою политической. Рано ли или поздно, тем ли или другим путем это совершится, но это непременно будет, ибо это лежит на необходимости вещей. Сила событий неотразимо приведет к этому исходу. В этом состоит задача двадцатого столетия”.
Рецензируемая книга – третья в серии под условным названием “Антология мировой либеральной мысли” (первая – “О свободе. Антология западноевропейской классической либеральной мысли” (1995), вторая – “Опыт русского либерализма” (1997). Ее появление можно расценивать как свидетельство того, что и в России просыпается интерес к либеральной теории. Будем надеяться, что издатели продолжат начатое дело и опубликуют выдержки из либеральной мысли второй половины XX в.
Вячеслав ВОЛЬНОВ
![]()
![]()
![]()
![]()
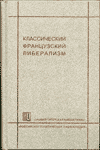 Классический
французский либерализм: Сборник.
Классический
французский либерализм: Сборник.
Пер. с французского М.М. Федоровой. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2000. — 592 с.
Как известно, Б.Рассел выделял в истории либерализма твердолобое и мягкосердечное направления. Среди названных им представителей того и другого мы не находим ни одного француза. Этот факт одинаковым образом свидетельствует и о самобытности французской либеральной традиции, и о ее непопулярности. В самом деле, в России, если и переводились произведения либералов, то преимущественно английских, хотя нередко — и с французских изданий.
В последние годы, лед, слава Богу, наконец - то, тронулся. В 1992 издана фундаментальная работа А. де Токвиля "Демократия в Америке." В середине девяностых опубликованы работа того же Токвиля, "Старый порядок и революция" в Антологии западноевропейской классической либеральной мысли, эссе Ренана и книжка Б.Констана "Об узурпации". Ныне в издательстве РОССПЭН впервые на русском вышел объемистый сборник "Классический французский либерализм," в котором крупное произведение Констана "Принципы политики, пригодные для всякого правления" соседствует с двумя работами Франсуа Гизо "О средствах правления и оппозиции в современной Франции" и "Политическая философия: о суверенитете." Все названные работы, кроме "Демократии в Америке", вышли в переводе к.филос.н. М.М.Федоровой ИФ РАН.
Все эти сочинения существенным образом обогащают наши представления о либерализме вообще и его французской модификации. В частности, яснее вырисовывается специфика проблематики гражданских и политических свобод, обусловленная уникальным и трагическим историческим опытом Французской революции. Английский "Великий мятеж" закончился "Славной революцией" и продолжительнейшим периодом политической стабильности, тогда как "Великая Французская" завершилась узурпацией власти Наполеоном Бонапартом, созданием его империи и затем, после ее краха, реставрацией власти "ничего не забывших и ничему не научившихся" Бурбонов, которые, однако, не осмелились посягнуть на Гражданский кодекс Наполеона. Как отмечено в предисловии, написанном составителем и переводчиком книги М.М.Федоровой, основной темой французского либерализма периода Реставрации "выступает проблема соотношения демократии, воплощенная в идее народного суверенитета и либерализма с его принципом свободы, проблема взаимоотношения между гражданским обществом и его политической властью." (С. 6).
Руссоистская "Общая воля", воплощенная в демократических институтах, становится агрессивной по отношению к меньшинству и грозящей ему уничтожением (констановская критика руссоистского понимания Volonte Generale и Contract Sоcial представляется нам исчерпывающей). Гильотинирование под звуки "Марсельезы" Жиронды, либерального крыла Конвента, освященное принципами 1789 г., стало одним из шокирующих примеров черного юмора Истории. Чем объясняется эта революционная вивисекция? Выдвижением "кровавой руки" Руссо — Робеспьера? Или подмеченной Констаном особенностью французского менталитета: одна из самых больших ошибок французской нации, - пишет он в книге "Об узурпации", - заключается "в том, что она никогда не придавала достаточного значения личной свободе [О свободе 1995: 224 прим.]. Ошибка ли это или наследие католицизма, который очистил страну от протестантов, но трагические последствия революционной чистки несомненны. И стоит ли уточнять, на ком лежит ответственность за злоупотребления изобретением доброго доктора Гийотена - на народе-суверене или на его полномочных представителях? Важнее было понять, как это стало возможным. Констан высказывается на этот счет в книге о "Принципах политики, пригодных для всякого правления", которой открывается издание. Признавая единственно легитимной общую волю, он указывает, что признание прав этой воли, то есть суверенитета народа, при абстрактном подходе "никоим образом не увеличивает сумму свобод индивидов", и "если придать суверенитету широту, которой он не должен иметь, свобода может быть утрачена вопреки этому принципу или даже благодаря ему" (С.27). Рецепт Констана - не наделять суверенитет народа безграничной властью, ибо, на деле, власть переходит "от общества к большинству, от большинства - в руки нескольких, а зачастую в руки одного человека" (С.28). Тут, по сути, возникает проблема нейтрализации пагубных актуализаций некоторых не лучших черт человеческой природы, для чего представительное правление создает благоприятную почву, хотя и имеет в своем распоряжении некоторые средства эффективного контроля.
Констан делает важный вывод: "в обществе, основанном на суверенитете народа, суверенитет не принадлежит никакому индивиду, никакому классу, который подчиняет себе все оставшееся общество своей частной воле, но неверно, что все общество в целом обладает в отношении всех своих членов безграничным суверенитетом" (Там же). Сие не означает, что всеобщность граждан, либо те, кто от ее имени облечен суверенитетом, могут суверенно распоряжаться частным существованием индивидов. "В той точке, где начинается независимость и личное существование, юрисдикция суверенитета останавливается" (с.29). Такое обращение к частному лицу, к человеческой ситуации означает отказ от приоритета громогласных революционных универсалий Свободы, Равенства и Братства, ставшими личинами Насилия, Бесправия и Ненависти. Недаром уже Бёрк и Бентам рассматривали Декларацию прав человека и гражданина, как софистику беззакония.
Можно до бесконечности цитировать книгу Констана. Известный ранее русскому читателю, как автор популярного свыше полутора столетия назад романа "Адольф" (переведенному Н.А.Полевым (1820) и П.А.Вяземским (1830), не раз упоминаемого в "Евгении Онегине", в наше время Констан предстает острым, нестареющим политическим мыслителем, влияние которого пережило его собственную славу литератора.
Франсуа Гизо более известен в России, особенно в советской, хотя бы потому, что его весьма часто упоминают в своих работах Маркс и Энгельс. Объект исследования у него тот же, что и у Констана — постреволюционное общество, невозможность вернуться в прошлое и слабость правительственных институтов, осложненная устарелостью методов управления. Весьма пространное исследование Ф.Гизо "О средствах правления и оппозиции в современной Франции" при первом чтении может показаться мастерски схваченной феноменологией текущей политики Франции начала 20-х годов XIX в. Но постепенно в этих живых наблюдениях и, в далеко не мимолетных, обобщениях начинает проглядывать набросок новой дисциплины — "социальной политики", — значение которой выходит за пределы Франции эпохи Реставрации. Книга дает обильную пищу для размышлений и консультаций политикам — особенно тех стран, где происходит смена старого режима новым и где не исключена возможность попятного движения. Действительно, когда Гизо говорит о том, что подчинение правосудия политике является орудием и характерной чертой тирании, разве это напоминание устарело? Или взять его блестящий анализ падения Бонапарта. Гизо признавал то позитивное, что сделало его великим правителем, хотя и в строго правовом смысле не легитимным. Он сделал кое-что для каждого из людей, его окружавших, многое для народов, далеких от него. Он признавал их потребности, предчувствовал их стремления, управлял их делами, поставил их интересы на первый план и стал популярным, он использовал, полученную от народа силу… Опираясь на массу, Бонапарт очень скоро разделался как с роялистами, так и с якобинцами. Но он… забыл о Франции,… упустил из виду массы и отделил свои дела от их дел… Общественность, нация, страна — вот где сила, вот откуда ее следует брать. Взаимодействие с массами великое средство правление (См. С.344-345). В главе о Бонапарте и бонапартизме представлен блестящий анализ деспотизма и его устойчивого влияния на народное сознание. "Бонапарт был велик, он дал Франции как потребность, так и привычку к величию во власти. И потребность эта сегодня представляет собой одну из опасностей для свободы, она завладевает множеством людей и ослепляет их до такой степени, что заставляет ценить силу ради силы, деспотизм ради деспотизма, когда и сила и деспотизм предстают во всем величии" (С.404).
Как и Констан Гизо уделяет много внимания проблеме суверенитета. Он также убежден историческим опытом, что идея народного суверенитета может быть извращена и ее именем удобно совершать неподсудные преступления. Гизо ищет более высокий принцип, который следует противопоставить принципу суверенитета народа и находит его в суверенитете справедливости, разума и права. Это походит на реанимацию естественного права в духе Гуго Гроция, но чуждый какой-либо метафизике Гизо представляет эту умопостигаемую цель, как пожелание гипотетическому новому политику выдвинуть в качестве принципа правления легитимность и разрушение абсолютной власти, под каким бы именем эта власть не скрывалась. Все это довольно абстрактные рекомендации, апеллирующие скорее к "должному", чем к "сущему", также как и оптимистическое заявление автора о том, что общество нетерпеливо стремится к некоей более высокой и более истинной доктрине относительно природы своего правления (См. С.354-355).
Неоконченная работа Ф.Гизо "Политическая философия о суверенитете" — образчик социальной антропологии, которая без метафизического фундирования "зависает" и не получает завершения. Между тем, такой подход напрашивался и Гизо подспудно ощущал потребность в нем, когда заявлял, что ни одна власть в этом мире не является и не может быть тем, чем она должна быть. Однако, вопреки этому заявлению, утверждающему непреодолимый разрыв между "сущим и должным", суверенитет все-таки провозглашается непогрешимым, то последствия этого отвратительны и неприемлемы как с фактической, так и с правовой стороны, никакая абсолютная власть не может быть легитимной (С.517). Уже в наше время поэтом сказано — "Власть отвратительна как руки брадобрея"…
Написанный в духе старомодного чистого разума века Просвещения, еще не тронутого критицизмом, трактат Гизо перенимает столь же старомодные сценические приемы, когда прибегает к Deus ex machina, которому приписывается "единство; в нем одном только и заключен единый и неотчуждаемый суверенитет" (С.535). Отсюда делается неубедительный для иноверца вывод, что единство суверенитета и его извечная незыблемость, как и сам суверенитет, чужды этому миру.
Далее ход мысли приводит Гизо к утверждению ложности претензий любой власти на свою неотчуждаемость. Осмелится ли кто сказать, что ни одно из правлений не заслужило своего падения, что не существовало тираний, совершенно законно свергнутых? Старая проблема XVII века о праве на сопротивление решается Гизо позитивно: сопротивление как и власть черпает свое право в своей моральной легитимности, в своем соответствии вечным законам разума (С.541). Здесь автор "О средствах правления и оппозиции" приходит снова к умопостигаемому миру гуманных целей и норм, которые у Гроция, однако, не нуждаются в божественной санкции.
Та же идея господства Разума проводится в критике представительной демократии, которая легко соскальзывает к тирании большинства. "Наилучшим правлением является правление, — подводит итог Гизо, — открывающее самые широкие возможности; никакая система не способна дать большего; только такое правление основано на истине, только такое правление уважает и дает гарантии права, которое воспринимает человеческую ситуацию в качестве фундаментального принципа и никогда не теряет ее из виду, как в своих учениях, так и в своих институтах. Несколько туманное резюме, которое проясняет концовка следующей главы "О численном большинстве или о всеобщем избирательном праве". Там Гизо говорит: "неверно полагать, будто бы численное большинство всегда, — либо не является никогда, — наилучшим доказательством легитимности власти. Все это по сути своей условно, переменчиво… Между тем, существует высший принцип, обуславливающий все эти вариации, ставящий определенные пределы праву на всеобщее голосование и в то же время, создающий для него подлинную основу" (С.578-579). Этот высший принцип, эти возможности актуализируются только в субъекте и потому антиномия сущего и должного — не может быть разрешена извне никакой схемой правления. Попытки теоретического и практического ее разрешения, тем не менее, имеют свое значение, даже при отрицательном результате. В целом же содержание тома, посвященного французскому классическому либерализму, несомненно, содержит и положительный заряд, открывающий новый для русского читателя ареал мысли и укрепляющий надежду и веру в торжество достоинства человека, которое коренится в его свободе.
В заключении скажем несколько слов о составителе и переводчике книги М.М.Федоровой. Ее переводы произведений Токвиля, Констана, Ф.Гизо, Э.Фаге, появившееся в последние годы, отличаются ясным, незатрудненным языком, высоким профессионализмом. Значительно сократившие число белых пятен нашей историко-политологической литературы, работы ученого, надеюсь, оказались замечены и по достоинству оценены научной общественностью. Хочется пожелать М.М.Федоровой также успешно продолжать свой неустанный труд.
О свободе 1995: О свободе. Антология западноевропейского классического либерализма. М. 1995.
Михаил АБРАМОВ,
доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института философии РАН.
![]()
![]()
![]()
![]()
 Психология
и психоанализ власти. В 2-х т. Хрестоматия.
Психология
и психоанализ власти. В 2-х т. Хрестоматия.
(Редактор-составитель Д.Я. Райгородский). — Самара: Издательский Дом "Бахрах", 1999. — 608 c., 576 с.
Рассматриваемая нами книга — первая в отечественной литературе хрестоматия по психологии власти и по власти вообще. В отличие от западного обществоведения, где феномен власти давно стал одним из главных объектов исследования, в нашей стране ее изучение по сути только начинается; эта тема относилась к числу наиболее идеологизированных аспектов советского обществоведения и сегодня по-прежнему сохраняется дефицит работ по проблемам власти. Поэтому появление данной хрестоматии можно только приветствовать.
В целом она представляет собой приличный по объему труд, разбитый на пять частей, достаточно содержательный и разнообразный по затрагиваемым проблемам и подбору авторов, в число которых вошли как классики, так и современные отечественные и зарубежные исследователи. В первой части ("Власть") содержатся отрывки из переведенных на русский язык работ зарубежных авторов, а также статьи и фрагменты монографий, написанные отечественными исследователями. Тексты весьма разноплановые — как по стилю, так и по содержанию. В одних рассматриваются проблемы концептуализации власти (А.Л.Алюшин и В.Н.Порус, Т.Болл, М.В.Ильин и А.Ю.Мельвиль), в других приводятся рассуждения об имидже власти и политиков (Е.Егорова и Е.Шестопал), харизме и легитимности (С.Московичи), политической коммуникации (С.В.Разворотнева), средствах и механизмах политического влияния (В.В.Крамник), потребности властвовать (С.Б.Каверин) и др. В раздел включен также фрагмент, посвященный структуре власти в посткоммунистическом обществе (Д. Крэстева).
К сожалению в первом разделе отсутствуют заслуживающие внимания фрагменты оригинальных работ западных авторов, посвященных объяснению феномена власти [наиболее полная коллекция таких работ содержится в трехтомном издании "Власть": Power: Critical Concepts 1994]. Особенно ощущается отсутствие фрагментов, посвященных анализу моделей власти в социальной психологии (которые нередко существенно отличаются от социологических), хотя именно психологический ракурс заявлен в названии хрестоматии [обстоятельный анализ концепций власти, разработанных в современной психологии содержится в монографии Э. Хендерсона: Henderson 1981]. Это не упрек составителю, а скорее сожаление, что многие интересные тексты зарубежных авторов еще не переведены на русский язык, что, по сути, и привело к недостаточной представленности собственно психологической проблематики в данном разделе. Вместе с тем, необходимо отметить, что если уж составитель включил в первый раздел сюжеты о структуре власти в посткоммунистических обществах, то было бы логично поместить в него и что-то из многочисленной литературы по социологическим моделям власти и объяснению ее распределения в различных социальных и политических системах. По этой проблематике уже существует значительный массив отечественной литературы, которая у нас обычно проходит под рубрикой "элитология".
В этом отношении последующие разделы хрестоматии выглядят более цельными и полными. Во второй части ("Политическая психология лидерства") приводятся тексты Г.А. Авциновой, Г.К. Ашина, Ж. Блонделя, М. Вебера, Л.Я. Гозмана и Е.Б. Шестопал, Г.Г. Дилигенского и др., в которых достаточно обстоятельно рассматриваются все основные аспекты политического лидерства - начиная с самого понятия и кончая типологией и выделением некоторых эмпирических закономерностей лидерства и факторов его обусловливающих. В тот же раздел включены и тексты, содержащие анализ характеристик отдельных политических лидеров (Е. Егорова, А. Кочетков).
В третьей части ("Социальная психология лидерства") рассмотрение лидерства переносится на уровень малых групп и межличностных отношений (Ю.Н. Емельянов, Н.С. Жеребова, В.И. Зацепин, С.Е. Хейнбах и др.). Подборка материалов в целом адекватна ее названию (лишь текст А.И. Кравченко, посвященный анализу идей Н. Макиавелли, более соответствует тематике предыдущего раздела хрестоматии), хотя она и в настоящем виде достаточно полная, ее можно было бы расширить за счет текстов из многочисленных работ по менеджменту.
Четвертая часть ("Психология власти") представлена в основном классиками (А. Адлер, Т. Адорно, Э. Фромм, К. Хорни и др.). В ней выделяется два основных сюжета: (1) мотив власти, стремление к власти и (2) психологические факторы подчинения ("бегство от свободы", "авторитарный синдром"). У Х. Хекхаузена объяснение мотива власти вписано в общую схему анализа этого феномена, в которой присутствует объяснение предпосылок и источников власти, ресурсов власти субъекта и объекта, стратегий субъекта, реакций объекта и т.д. Им также дается анализ методик измерения мотива власти и их валидность. В фрагментах, взятых из работ К. Хорни, стремление к власти рассматривается главным образом в контексте анализа невротического желания получения успокоения от тревожности, различных проявлений этого стремления. В хрестоматии также представлен ее фрагмент, посвященный различным видам "захватнического" типа личности — нарциссическому, поклоннику совершенства, высокомерно-мстительному — и дан подробный анализ последнего.
Второй сюжет по своей тематике более соответствует заключительному разделу хрестоматии ("Психоанализ власти"). Составитель взял параграф "Авторитаризм" из "Бегства от свободы" Э.Фромма, небольшой фрагмент из "Авторитарной личности" Т.Адорно, посвященный авторитарному синдрому и его проявлениям, фрагмент из книги М.Бурно о напряженно-авторитарном характере и отрывок из А.Кемпински о дисциплине. В самом же заключительном разделе дается объяснение проблемы господства бессознательного над человеческим сознанием и поведением в интерпретации З.Фрейда (Н.С. Автономова), характеристика вождя харизматического типа и формирование его авторитета (С. Московичи), а также приводятся психологические портреты Гитлера (Э. Эриксон), Сталина (Д. Ранкур-Лаферриер, К. Юнг). Поскольку раздел называется "Психоанализ власти", вполне логично было бы включить в него и фрагменты из произведений самого З.Фрейда (который по существу стоит за кадром практически во всех упомянутых работах), а не ограничиваться при отрывком из посвященной австрийскому мыслителю статьи Автономовой.
Непросто давать советы составителю относительно подбора фрагментов для хрестоматии, поскольку видение проблемы у него и у рецензента может быть различным. Однако именно поэтому было крайне необходимо включить в хрестоматию хотя бы небольшую вводную статью с характеристикой использованных текстов (поясняющую, в числе прочего, и мотивы отбора материала) и концепций авторов. Это позволило бы не только облегчить работу читателю, но и воспроизвести логику построения хрестоматии, очертить круг проблем и четко объяснить, что, собственно говоря, представляют собой психология и психоанализ власти. Необходимость такой статьи обусловлена и широкой вариативностью использования термина "власть" в приведенных фрагментах. Если у Кемпински власть возникает внутри сообщества многоклеточных организмов, а Фрейд обосновывает господство бессознательного над сознанием, то другие авторы обычно используют термин для описания и объяснения осознанных отношений между людьми. То есть, под властью разные авторы понимают подчас совершенно разные вещи и это потребует внесения необходимой систематизации в предмет анализа.
Все эти недостатки можно устранить в последующих изданиях. А в целом хрестоматия безусловно полезна как для специалистов, так и для широкого круга читателей.
Валерий ЛЕДЯЕВ,
доктор философских наук, профессор кафедры политологии и права Ивановского государственного энергетического университета.
![]()
![]()
![]()
![]()
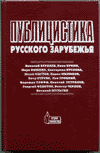 Публицистика
русского зарубежья (1920-1945):
Публицистика
русского зарубежья (1920-1945):
Сборник статей. /Ред. Кузнецов И., Зеленина Е. — М.: “Союзполиграфпром”, Факультет журналистики МГУ. 1999. — 352 с.
В мировом пространстве изгнания
Антология “Публицистики Русского зарубежья” посвящена самопознанию и рефлексии эмигрантов Первой волны. Составители сумели охватить весь политический и культурный спектр эмигрантской мысли, предоставив вниманию читателей программные заявления основных ее групп и течений. Представляется, что подобный опыт мог бы пригодится при составлении аналогичных антологий по современной политической публицистике.
Авторы иллюстрируют религиозно-философское наследие России за рубежом работами одного из наиболее значительных мыслителей ХХ века Николая Бердяева. В них показана концептуальная преемственность философии Серебряного века и эмиграции. Исследователь “смысла творчества” также предпринимает анализ феномена свободы (в том числе и политической) в контексте религиозного дискурса.
Писательская публицистика представлена именами Надежды Тэффи и Ивана Бунина. Помимо статей, характерных для отечественной прозы, с ее тягой к дидактизму и универсальности (“Миссия русской эмиграции”) и собственно работ на литературоведческие темы (“Инония и Китеж” о С. Есенине) имели место работы о быте эмиграции, ее проблемах, во многом связанных с характерными для Первой волны герметизмом мышления и ориентацией на свое доэмигрантское прошлое (“В мировом пространстве”, “Ностальгия”).
“Политическая” публицистика связана в первую очередь с именем Павла Милюкова. Обращают на себя внимание две его статьи: “Памяти П.А. Кропоткина” и “Как пришла революция”. Вспоминая одного из идеологов анархизма, лидер кадетов рисует образ чрезвычайно толерантного человека, личные качества которого менее всего сочетаются с учением синдикалистов. Милюков справедливо отмечает, что, по мысли философа, “перерождение всей человеческой натуры” через анархию, снимает “разрушительный смысл учения” (с.158). Статья о февральском перевороте примечательна признанием одного из наиболее активных и роковых участников, по словам Бунина “окаянных дней”: “Мы, — я говорю за себя и за своих единомышленников, — мы не хотели этой революции” (с.161).
Особняком стоят “левые” публицисты. Оставляя в стороне творчество Екатерины Кусковой, Марка Вишняка и других идеологов социалистической утопии, обратим внимание на такие течения пореволюционной эмигрантской мысли, как евразийство и сменовеховство. Феномен пореволюционного сознания, логическим завершением которого стала апология тоталитаризма, представляется близким современной отечественной политической культуре. Разрушение привычных политических структур, смена аксиологической парадигматики в искусстве, снижение ценности человеческой жизни в I Мировой и Гражданской войнах, отсутствие экономических и социальных перспектив привело к тому, что один из известнейших писателей Русского Зарубежья Гайто Газданов назвал “утратой целостного морального сознания”. Кстати, во многом аналогичные, процессы наблюдаются и в современной политической жизни: хотя возникли они под воздействием совсем иных факторов (высокие технологии, масс-медиа, постмодерн), поиск общих тенденций и параллелей представляется мне вполне уместным.
Несмотря на внутренние противоречия и вражду между пореволюционными группировками (см. в сборнике “Прошлое, настоящее, будущее” Петра Струве и ответ на его статью Николая Устрялова “Национал-большевизм”) последние объединяло между собой отрицание (или ограничение) прав индивида, подчинение его творчества внеэстетическим факторам. Струве, написавший в свое время коммунистический манифест российской социал-демократии, а потом неоднократно менявший “вехи”, например, считал, что “свободное творчество” не может быть вне “религиозно-церковной области” и вне “национального духа” (с.182). Самосознание национального духа в соответствии с гегельянской традицией, по Струве, находит финал в формах государственности. Их нарушение, как и в своей статье в “Вехах”, Струве считает недопустимым. Устрялов, соглашаясь со своим оппонентом, довел мысль Струве до логического конца. Он откровенно признавался, что “формальные демократы и радикалы-интеллигенты”, не “постигшие до конца логику государственной идеи... еще долгое время останутся в России профессионалами подполья и перманентными обитателями Бутырок” (с.255).
Феномен пореволюционной мысли не следует рассматривать только лишь как реакцию на кризис либерализма, восприятие его как отживающей, уходящей политической модели и поиск новых альтернатив, зачастую в форме “меньшего зла”. Подобные тенденции были характерны, впрочем, и для западной политической мысли (“Аксьон Франсез“ Леона Блуа). Отметим, что именно как меньшее зло по отношению к “серой чуме большевизма” рассматривал наци генерал Хейнц Гудериан. Многие эмигранты искренне приветствовали возникновение и развитие тоталитарных режимов (см. роман “Выпаш” Петра Краснова с его описанием речи Адольфа Гитлера на стадионе) и так или иначе сотрудничали с гитлеровским режимом.
Возвращаясь к сборнику, следует сказать, что анализ всей палитры политической публицистики Русского зарубежья неизбежно ставит вопрос об отношении к данному дискурсу представителя крайне левого ее течения, каковым являлся Лев Троцкий и связанная с ним группа эмигрантов, участников IV интернационала. Представляется, что в данном случае все зависит от интерпретации. С одной стороны, при формальном подходе к исследуемой проблематике, к эмиграции относится вся совокупность граждан, вынужденных покинуть страну по политическим или религиозным убеждениям. С другой, следует помнить, что политические взгляды одного из основателей Советского государства мало, чем отличались от утвердившейся после его свержения официальной точки зрения правящей партии в СССР. Вспомним, например, что в одном из “Бюллетеней оппозиции”, опубликованном в период форсированной индустриализации и коллективизации (“год великого перешиба”, по слову Александра Солженицына) Троцкий ставил в вину советскому руководству недостаточно быстрые темпы ее проведения, видя в этом “предательство революции”.
В качестве несомненной удачи сборника следует назвать прекрасно подготовленный указатель периодических изданий Русского зарубежья. Он не ограничивается временными рамками Антологии и содержит информацию о месте и годе издания, редакторе, количестве номеров и имевших место переименованиях.
В конце хотелось бы обратить внимание составителей на три существенных упущения.
Во-первых вне пределов рецензируемого сборника осталась плодотворная и глубокая политическая публицистика последователей философии всеединства. Думается, что статьи о. Сергия Булгакова или Семена Франка об истоках русского большевизма в предлагаемой антологии смотрелись .
Во-вторых, анализ политико-философского феномена евразийства и его критики представляется неполным без статьи одного из основателей, а затем и противников исследуемого явления о. Георгия Флоровского “Евразийский соблазн”. Объективный анализ причин возникновения евразийства, его слабых и сильных сторон существенно углубляется тем, что автор одновременно выступает как сторонний наблюдатель (критик) и одновременно как один из “отцов-основателей” этого пореволюционного феномена.
Наконец, вызывает сожаление изобилующий фактическими ошибками, неполнотой и тенденциозными оценками комментарий. Так, например, противник интервенции Антанты в Россию, один из первых политических деятелей, призывавших к признанию СССР, Д.Ллойд-Джордж, назван организатором вооруженного вторжения Альянса (с.330). Авторы комментариев пишут о том, что ряд упоминаемых в статьях советских функционеров были репрессированы, а затем реабилитированы за отсутствием состава преступления (И. Смирнов, К. Радек, И. Смилга), но при упоминании на той же (с.334) странице Н. Муралова или же М. Лациса и Я. Петерса (с.339) опускают факт репрессий. Нельзя не упомянуть, что настоящая фамилия главы Союза воинствующих безожников Емельяна Ярославского была Губельман, а не Губерман, а Дантон был казнен, а не “убит” по приказу Робеспьера, как и упоминаемый в комментариях Сен-Жюст.
Несмотря на отмеченные недостатки и неточности сборник благодаря своей репрезентативности, насыщенности фактологическим и справочным материалом представляет прекрасное пособие для исследователей русской эмиграции.
Андрей МАРТЫНОВ
![]()
![]()
![]()
![]()