


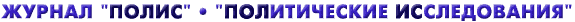
ОБЛИЧАТЬ И ЛИЦЕМЕРИТЬ:
ГЕНЕАЛОГИЯ РОССИЙСКОЙ ЛИЧНОСТИ
Генеалогия личности и историческая динамика социума
Европейский университет в Санкт-Петербурге можно поздравить в выходом в свет незаурядного
научного издания, которое благодаря совокупности заведомо привлекательных качеств:
нетривиальности поднятой проблемы, междисциплинарности исследования, свежему взгляду
на феномены повседневной жизни — наверняка будет с интересом принято и по достоинству
оценено в академическом сообществе России.
В этом многомерном исследовании мое внимание привлекает, в особенности, измерение
историческое, хотя автор, кажется, отнюдь не склонен его акцентировать: книга,
утверждает он, "не является историческим исследованием того, как на самом деле
жили люди на Руси, в Российской империи или в Советском Союзе. Она исследует те
способы (курсив мой. — А.М.), которые во многом до сих пор помогают нам находить
и узнавать в себе странный феномен под названием 'личность', а потом взращивать
его, совершенствовать, холить и лелеять или, наоборот — уничижать и уничтожать"
(с. 11). Обратим внимание на то, что далее автор как будто бы продолжает говорить
о способах неких действий, однако называет их уже практиками (в последующей цитате
курсив также мой. — А.М.): "В этой книге я хочу прояснить основные практики того,
как люди делают феномен под названием 'личность' объектом своего познания и воздействия, — то есть объективирующие практики российской культуры. Я также хочу прояснить
основные практики того, как люди делают себя субъектом познания и действия, — то есть субъективирующие практики" (с. 11-12). Как видим, исследуются, собственно,
не столько способы, которые "до сих пор помогают нам...", сколько практики российской
культуры — нечто явно исторически масштабное: "...можно предполагать, что прояснение
этих центральных практик поможет во многом вывести нерефлексируемый фон российской
культуры на передний план дискурса" (с. 12).
Но все познается в сравнении. Как пишет об этом сам Хархордин, "размышления в
диалоге с Фуко (1) дают возможность
наметить несколько интересных сравнений между российским и... западными обществами"
(с. 472). И книга, по справедливому замечанию автора, "указала на серию радикальных
контрастов между культурами для того, чтобы начать обсуждение более тонких кросс-культурных
различий без обычных и поднадоевших сравнений 'коллективистской России' и 'индивидуалистического
Запада'. В более общем плане она попыталась сформулировать несколько тезисов относительно
исследования фоновых практик повседневной жизни. И задача ее будет выполнена,
если она когда-нибудь уйдет на задний план дискуссий о фоновых практиках повседневной
жизни" (с. 482).
Наиболее сильными в рецензируемой работе мне кажутся два вывода. Во-первых, автор
убедительно показывает, что "тройная логика церковного суда — обличи, увещай,
отлучи — очевидна и в функционировании партийных органов… Большевистские организации
воплотили в себе и интенсифицировали практики отмененных церковных судов" (с.
42-43). О.Хархордин, таким образом, демонстрирует сходство революционных большевистских
практик с методикой действий православных церковных судов.
Автор, по его собственному разъяснению, формулирует в своей книге две гипотезы:
(1) объективация индивида в России преимущественно опиралась на практики горизонтального
надзора среди равных по статусу, а не на иерархический надзор начальников за подчиненными,
как это по большей части происходило на Западе; (2) центральные практики субъективации
в России сформировались на основе покаянных практик самопознания, характерных
для восточного христианства, а не на базе исповедального анализа личности, как
это было присуще Западу.
Вспомним в связи с первой гипотезой, что в России большевистские организации,
как уже говорилось, воплотили и интенсифицировали практики отмененных церковных
судов — "три основные практики, собранные в единую конфигурацию еще в Новом Завете:
обличение грехов, товарищеское увещевание и отлучение" (с. 472). Что касается
террора 1930-х годов, то он был развязан на фоне прямого — убийственного, по определению
автора, — слияния практик обличения и отлучения, не опосредованных увещеванием.
Эти повальные репрессии, как особо отмечается в книге, оказались сопряжены с попыткой
установить товарищеский надзор повсюду, превратив каждую партячейку или каждый
рабочий коллектив в группу, объединенную практикой товарищеского увещевания. Тем
самым был проложен путь для последующего введения более мягкого, но зато и более
систематичного дисциплинарного воздействия. В 1950 — 1960-е годы практика увещевания,
проникнув во все уголки системы, стала, наконец, более или менее постоянно опосредовать
обличение и отлучение.
Все это тесно связано и с реформированием, которому подверглась практика обличения:
"Аспекты наделения обличаемых личностью... были подчеркнуты с той же силой, что
и аспект обвинения и критики, который ранее преобладал в обличении. Это породило
специфического советского человека, который узнавал о себе и своей личности через
публичное обсуждение его персональных качеств в специальной ситуации чистки или,
позднее, в ее рутинизированных версиях, таких как индивидуальный отчет члена партии,
Ленинский зачет школьника или обсуждение коэффициента трудового участия каждого
члена бригады" (с. 473-474).
В ходе развертывания мыслительного (и фактического) материала, воссоздающего предмет
анализа — енеалогию российской личности, автор порой намеренно огрубляет в обобщениях
картину действительных процессов. Так, две упомянутые выше гипотезы, выдвинутые
и сформулированные с целью оттенить радикальный контраст между различными культурами
при описании их фонов, сам он называет "слишком грубыми", ибо они игнорируют все
не подпадающие под них случаи, создавая "поле для будущих более проработанных
сравнений" (с. 481). Вместе с тем принципиально значимая нюансировка органично
вошла в "корпус" исследования. Это относится, в частности, к довольно "хрупкой",
при всей своей масштабности, теме перемен в фоновых практиках. Так, преемственность
между практиками дореволюционной России и Советского Союза не сводится автором
к простому наследованию и воспроизведению. Перенаправлявшиеся на достижение новых
целей и перегруппировывавшиеся в новых конфигурациях (скажем, соединение техник
большевистской работы над собой с методичным самопланированием), эти практики
в результате породили новую форму жизни — советское самосовершенствование, в рамках
которого можно увидеть проявления как преемственности, так и радикального разрыва
с прошлым. Здесь источник тонкого, но весьма существенного дифференцирования практик.
Насаждавшиеся властью практики, в официальной сфере предельно ритуализованные,
перехватывались и приспосабливались в неофициальной жизни для достижения целей,
отличавшихся от официальных, а порой и противоположных им. Например, взаимный
надзор был использован диссидентами для создания тайного общества, занимавшегося
пропагандой антисоветских ценностей. Возникали и неофициальные, никем не утвержденные
практики, такие как личное притворство или, допустим, стремление отличаться от
других своей одеждой (с. 478-479). Иными словами, постепенно менявшийся фон практической
жизни советских людей, помимо утвержденно-разрешенных и насаждаемых практик, состоял
еще из таких, которые развивались как спонтанные и непредвиденные реакции на целенаправленную
политику по насаждению первых, а кроме того, из практик официальной сферы, смещенных
в неофициальную и перенаправленных на достижение новых, неофициальных целей. "Этот
повседневный фон, — подчеркивает Хархордин, — не исследовался ни советскими учеными...
ни западными советологами, которые занимались сравнением институтов советской
власти либо с первоначальными революционными замыслами, либо с нормативными предписаниями
либеральной теории. И те и другие почти не замечали постепенных перемен в повседневной
жизни, и потому для всех них перестройка 80-х годов началась и закончилась так
неожиданно" (с. 480).
Справедливость данных положений не вызывает сомнения, более того, они представляются
мне и одними из наиболее сильных в книге. А между тем из них (разумеется, через
целый ряд опосредований) следует еще одно, которое, признаюсь, я никак не мог
счесть приемлемым для себя: "Сталинский режим не только сделал возможным массовое
употребление слова 'личность', он также научил население, как признать и распознать
эту личность в себе. В этом смысле режим дал 'личность' массам, он дал возможность
каждому человеку стать отдельной, а иногда и исключительной личностью. В терминах
Хайдеггера можно даже сказать, что режим 'освободил' личность для существования"
(с. 288). Или в другом месте: "Советская индивидуализация началась с того, что,
постоянно подчеркивая необходимость воспитания нового человека, большевики старались
усилить внимание к собственной личности сначала среди членов партии, а потом и
среди всего населения. Эту 'личность' превратили в предмет, о котором надо было
постоянно думать и заботиться, который надо было постоянно совершенствовать" (с.
10).
У меня создалось впечатление, что книга Хархордина вообще оставляет открытым казавшийся
мне принципиальным вопрос: "советский индивидуализм" развивался вопреки коммунизму
или был составной частью его каждодневной реальности? Автор не дает на него четкого
ответа (да он и самим вопросом не задается), хотя ощущение таково, что он больше
склоняется ко второму варианту, в свете тезиса об "освобождении личности для существования".
Однако уже в следующей главе он признает "шизофренически-двойственный" (с. 357)
характер подобного рода экзистенции, и это заставляет нас допустить, что ему все-таки
не чужда идея о том, что индивидуализм зародился в недрах советского общества
наперекор всему официальному. Недаром в книге подчеркивается, что "за фасадом
монолитного единства таились разнообразнейшие вкрапления и образования, спонтанно
и постепенно появлявшиеся в недрах этой монолитной массы" (с. 363).
Отмеченное противоречие, возможно, отчасти объясняется мега-идеей автора, связанной
с анализом языковых практик. Думается, однако, что сама по себе словесная риторика
коммунизма (например, "персональные дела") не должна вводить в заблуждение:
за псевдолиберальной фразеологией официального советского режима ("отмирание
государства", самоуправление" — см. об этом с. 390) скрывался тоталитаризм в
его классическом виде. Разумеется, в СССР существовали карьеризм, материальные
стимулы и т.п., но практики повседневности были деперсонализированы. "Мы" (во
всяком случае в публичном дискурсе) прочно вытеснило "я". Многие привычные для
западного человека слова типа privacy вообще не имели аналога в нашем лексиконе.
И конечно же, именно после падения советского режима каждодневная жизнь российского
человека была, если можно так выразиться, "индивидуализирована". Наши сограждане
начали постепенно понимать, что они не просто "жители" или "население", но избиратели
и налогоплательщики. Они стали приучаться к тому, что индивидуализирован может
быть любой товар — от персональной поздравительной открытки до сувенирной футболки
с портретом заказчика или ручки с особым логотипом. Они открыли для себя доселе
запретные сферы, связанные со всевозможными проявлениями сексуальности. Даже адреса
на конвертах мы теперь пишем так, как это делается во всем цивилизованном мире,
ставя фамилию получателя выше и улицы, и города, и даже — страшно сказать! — страны.
Индивидуализировался и научный язык: в нем "идентичность" стала сосуществовать
с традиционным "гражданством", "социализация" превратилась в альтернативу "воспитанию",
а "группа" (2) и "сообщество"
вытеснили некогда казавшийся непотопляемым "коллектив"...
Кстати, представляется несколько странным, что О.Хархордин не часто применяет
для своего анализа концепт идентичности, хотя, по сути, именно ему и посвящена
значительная часть книги. Например, когда автор пишет о "коллективном действии
группы в ответ на серьезную внешнюю угрозу" (с. 111), он фактически описывает
один из механизмов конструирования идентичности. "Слитность", "спайка" (с. 161) — это тоже идентификационные характеристики.
Другим важным выводом, имеющим несомненную познавательную ценность, является следующее
утверждение Хархордина: "Даже если поколения молодых людей не принимали затхлые
ценности, навязываемые им… тем не менее они воспроизводили фоновые практики советской
культуры… Люди часто продолжали придерживаться тех же самых практик даже для целей,
альтернативных официально провозглашаемым… Логично предположить, что, отвергнув
коммунистические ценности в 1991 г., многие российские граждане не смогли или
не захотели с такой же легкостью отказаться от повседневных практик, составлявших
привычный фон для дискурса об этих ценностях" (с. 442-443).
Действительно, в этом слишком хорошо знакомом явлении и следует искать корни того
стиля ведения бизнеса и участия в политике, который демонстрирует поколение бывших
"комсомольских деятелей". Этот стиль удивительным образом сочетает в себе мировоззренческий
либерализм с верой во всемогущество административного аппарата, а коммуникационную
открытость — со стремлением контролировать информационные процессы.
И все же, думается, и в самой русской культуре повседневности есть нечто мешающее
победному шествию получившей "зеленую улицу" индивидуализации. Это и нелюбовь
к элементарным формам выражения уважения к другому (в частности, в виде простого,
но не так часто встречающегося в быту "пожалуйста"), и отсутствие навыка брать
вину на себя (для русской повседневной культуры скорее характерна привычка сваливать
ответственность на других). Именно это, возможно, и создает питательную среду
для возвращения некоторых компонентов, казалось бы, уже забытого прошлого — от
элементов "школьной формы" до ДНД.
На мой взгляд, автор порой идеализирует некоторые из описываемых им феноменов
советской жизни. Трудно, скажем, согласиться с его характеристикой той же ДНД
как более эффективного, чем милиция, инструмента обеспечения уличного порядка
(с. 374). Можно поспорить и с утверждением, будто бы "главная латентная функция…
тостования (на днях рождения — А.М.) заключается в выявлении личности именинника"
(с. 445): мой опыт, например, подсказывает, что публичные речи в застольях, как
правило, абсолютно бессодержательны, ибо участники последних воспринимают необходимость
"тостоговорения" как некий формальный церемониал, который нужно поскорее завершить.
В дополнение к тем примерам, которыми уже иллюстрировалась трудность восприятия
некоторых выводов автора относительно "фоновых практик", приведем еще один пример,
для чего вернемся к первой из двух основных гипотез, сформулированных в книге
(см. выше). Так, указывая, вслед за другими, в т.ч. зарубежными, исследователями
на активное участие советских людей в надзоре за собой, на "смыкающиеся сети государственного
контроля и всенародной бдительности", Хархордин, со своей стороны, подчеркивает,
что в этой сети главную роль играл именно горизонтальный, а не вертикальный контроль.
"Взаимный надзор, — пишет он, — это то скальное основание, на котором покоятся
горы советской власти, в котором укоренены властные пирамиды и лестницы. Этот
надзор каждого за каждым не есть некое хитрое институциональное решение, которое
принимается властью, когда уже нечего предпринять; наоборот, взаимное наблюдение
друг за другом — это тот фундаментальный слой власти, которого достигаешь, когда
разгребаешь горы иерархических структур, покоящихся на нем. Если убрать этот слой,
советская власть исчезает: пирамиды рушатся, а лестницы не на что поставить. Взаимный
надзор — это цементирующий слой, в котором застыли краеугольные камни и несущие
конструкции советской системы: без него Советский Союз был бы просто невозможен"
(с. 122-123). Сильное высказывание, полное внушительной экспрессии!
Однако корректность использования термина "горизонтальный" для характеристики
надзора за поведением людей во времена СССР (с. 381) вызывает у меня сомнение.
Сразу же приходит на ум, что эта "горизонталь" на самом деле являлась составной
частью всепроникающей вертикали, вне которой она существовать попросту не могла.
Тем более надуманным выглядит противопоставление советской модели "горизонтального
контроля" "иерархическому надзору", в котором Хархордин видит ключевой элемент
западной управленческой модели. Тут же вспоминается, что на Западе (в частности,
в США) существуют все элементы взаимного контроля — от формулы "знай своего клиента",
которою все чаще предпочитают руководствоваться частные банки, до биллбордов типа
Neighborhood Watch, призывающих жильцов сообщать в полицию о любом подозрительном
субъекте, замеченном на близлежащей территории.
Многие практики повседневности, описываемые О.Хархординым, носят универсальный
характер и едва ли могут быть привязаны к той или иной культурной традиции. Например,
представление рекомендательных писем (с. 167) — это один из элементов профессиональной
деятельности в странах Запада, своего рода "страховка" от "проходимцев".
То, что рецензируемая книга вызывает желание уточнять, переспрашивать, а порой
и вступать с автором в полемику, является скорее следствием ее достоинств, нежели
свидетельством недостатков. Думается, что в данном смысле монография О.Хархордина
выполнила важнейшую научную функцию: она предложила новый взгляд на проблему и
стимулировала дискуссии среди специалистов. При этом она способна увлечь и неспециалиста — благодаря наполненности узнаваемыми реалиями, всякий раз предстающими в новых
связях, в неожиданном свете, по-новому объясняемыми, обретающими новый смысл.
Меня книга Хархордина убеждает в том, что "история повседневности" — а ведь именно
она оказывается отраженной в генеалогии личности — есть полноценная история общества,
хотя и забываемая по мере протекания и потому почти не рефлексируемая; ее реконструкция
по материалам "археологии дискурса" позволяет увидеть таящиеся в ней пружины исторической
динамики социума.
1.
Именно разработки М.Фуко в изучении феномена личности легли в основу подхода
О.Хархордина к поставленной им проблеме. Фуко, например, "переносит фокус
исследования с сущности под названием 'индивидуализм' на процесс (здесь и далее
курсив мой. — А.М.) под названием 'индивидуализация'" (с. 9). Существенно
важное, с точки зрения Хархордина, отличие. Следуя Фуко, продолжает он, "можно
изучать не только центральные ценности индивидуализма, которые интериоризовали
представители данной культуры, но и практики формирования и усложнения собственного
'я'. Эти практики создают обычно незаметные предпосылки для того, чтобы дискурс
о ценности индивидуализма мог быть сначала воспринят, а потом и принят как сознательная
политическая программа" (там же). Так — поначалу почти неразличимо — в
контексте исследовательской саморефлексии обозначается и мотив исторической
динамики социума.
2.
По верному замечанию автора, производные от слова "группа" в советском
дискурсе имели преимущественно негативные коннотации ("групповщина"
и пр.) — с. 180.
Андрей МАКАРЫЧЕВ


