
Второй выпуск (часть 9)
![]()
![]()
![]()
![]()
Тексты участников дискуссии

Второй выпуск (часть 9)
![]()
![]()
![]()
![]()
Тексты участников дискуссии
Алексей
МИЛЛЕР
ДЕМОКРАТИЯ ЭТНИЧЕСКОГО БОЛЬШИНСТВА? (о русском проекте Валерия Соловья)
Владимир
ГЕЛЬМАН
ИТОГИ ПОСТСОВЕТСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Владислав
ИНОЗЕМЦЕВ
ПОРВАТЬ С ТРАДИЦИЕЙ!
Лев ГУДКОВ,
РОССИЙСКИЙ АВТОРИТАРИЗМ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТЕКСТ
Юрий ПИВОВАРОВ
"БУДУЩЕЕ КАЖДЫЙ РАЗ ИДЕТ В ИНУЮ, НЕЖЕЛИ БЫЛО ПРЕДСКАЗАНО, СТОРОНУ…"
Владимир
ЛАПКИН
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ: РОССИЙСКИЙ КАЗУС
________________________________________________
Святослав КАСПЭ,
заместитель директора и руководитель аналитической службы Фонда "Российский
общественно-политический центр",
профессор Высшей школы экономики
ИМПЕРИЯ, НАЦИЯ И СВОБОДА
Будущее не предопределено.
Сара и Джон О'Конноры
Вступление на столь поздней стадии в дискуссию, уже принявшую такой масштаб, приводит на ум один из прекраснейших ирландских анекдотов; в нем Пэдди Фицпатрик, проходя вечером мимо паба, у входа в который бушует многолюдная потасовка, вежливо интересуется: "Простите, пожалуйста, это частная драка или участвовать могут все?". Спектр поднятых вопросов поражает воображение; попытки завязать содержательный диалог, хотя бы и в виде обмена прицельными ударами, чрезвычайно редки; впрочем, сочетание предельной широты тематической рамки, заданной организаторами, с общеизвестной склонностью большинства российских экспертов исполнять по любому поводу одну и ту же глубоко личную и хорошо затверженную песню (в лучшем случае - две-три) вряд ли могло привести к другому результату.
Выбор возможных стратегий участия в подобной драке ограничен. Едва ли не более всего привлекательна позиция наблюдателя, анализирующего схватку со стороны, группирующего по разным основаниям ее участников, подводящего промежуточные итоги плюходействия и тем самым производящего экспертный продукт второго уровня. Но высказывания в этом жанре уже несколько раз были сделаны (среди них выделяется блистательной четкостью анализ Эмиля Паина), и, кажется, было бы правильнее отложить окончательный разбор полетов до завершения всего процесса; к тому же и наблюдатели не могут удержаться от того, чтобы спуститься с судейской вышки и, засучив рукава, отвесить пару-тройку увесистых тумаков уже в личном качестве (что по-человечески очень понятно). Пополнять ряды кидающихся в бой очертя голову и махать кулаками по всем азимутам решительно не хочется. Выход подсказывает переосмысленный вопрос Пэдди Фицпатрика: стоит попытаться выделить в этом кипящем водовороте зону своей, частной драки. Для меня она определена словом "империя", вновь и вновь всплывающим и в этой дискуссии, и вообще в российском публичном пространстве последних лет.
Почему империя оказалась "in fashion", достаточно ясно. С одной стороны, это хорошо укладывается в русло глобальной тенденции, точнее, сразу двух: a) оживления интереса к имперской проблематике в западных социальных науках, начавшегося пару десятилетий назад (примечательно, кстати, что российские специалисты приняли в этом научном движении довольно активное и вполне достойное участие); b) распространяющегося и в научных, и в более широких интеллектуальных кругах ощущения, что именно термином "империя" (под которым кроется мощный пласт более конкретных концепций, моделей и представлений) наиболее адекватно описывается природа современного мирового порядка[1]. С другой стороны, в российском контексте возникла особая, дополнительная чувствительность ко всему "имперскому", лучше всего заметная в словопрениях околополитических элит, но просматривающаяся даже в глубинах массового подсознания (ровно перед тем, как приступить к сочинению этого текста, я обнаружил на двери собственной квартиры подметный листок со звучным титлом "Империя пиццы"; увлекательнейшее чтение представляют собой выдаваемые "Яндексом" результаты поиска по этому слову: империи вкуса, колес, керамики, чистоты, холода, тепла, фейерверков, дайвинга, окон, мебели, комфорта и даже - о, мечта несбыточная! - заработка и халявы).
Впрочем, происхождение нашей специальной "имперской чувствительности" тоже вполне прозрачно. Россия была империей на протяжении значительной части своей истории; Россия перестала ей быть совсем недавно; и сам факт, и его причины, и обстоятельства, при которых он совершился, до сих вызывают у значительной части населения эмоции скорее негативные или по меньшей мере невосторженные. В ядре империи ее имя естественным образом коннотирует с величием и блеском, а не с угнетением и чужеземным владычеством, как это происходит на периферии. В таких условиях слово "империя" просто не может не быть весьма ценным символическим ресурсом, приватизация которого и распоряжение которым сулит любому политическому актору ощутимые бонусы и преференции. Именно любому: эксперимент, поставленный Анатолием Чубайсом с выдвижением лозунга "либеральной империи", продолжения не возымел, однако выявленная ФОМом тогда же, в 2003 г., общественная реакция на этот лозунг в высшей степени показательна. То, что 82% опрошенных вообще не поняли смысла формулы, совсем не удивительно (надо признать, что ее автор не слишком постарался им помочь); но вот то, что среди остальных респондентов безусловно преобладало положительное восприятие (лишь 1% ассоциировал "либеральную империю" с "социальной несправедливостью" и столько же заявило, что "империя не может быть либеральной"), означает, что привлекательность империи (хоть бы и либеральной!) столь велика, что легко перекрывает даже безусловно "черную", с точки зрения большинства россиян, репутацию Чубайса.
Таким образом, "суета вокруг империи рационально объяснима и политически целесообразна (что никак не исключает наличия у тех или иных ее участников мотиваций, отличных от прагматического расчета выгод и издержек), а потому неизбежна - слово "империя" слишком звучно и весомо, чтобы остаться непроизнесенным. Но какое содержание в него вкладывается? Как оно соотносится с тем, что принято понимать под имперским типом политической организации в науке и с тем, чем были исторические империи, в том числе Российская? Словоупотребление не может быть вовсе произвольным, семантические поля должны быть центрированы хоть каким-то смыслом. Или слова имеют значение, или разговор вообще невозможен. И вот тут начинаются настоящие проблемы. Как показывает дискуссия (впрочем, и другие политические полемики последних лет), то, что в ней подразумевается под империей, к империи, за редкими исключениями, имеет очень отдаленное отношение. В какой пропорции в том или ином случае соединились невежество и ложь - не так важно. Важно, что под этим выигрышным брэндом преимущественно впаривается фальсификат.
Прежде всего: природа империи не может быть уяснена без обращения к ее ценностному измерению. Это, конечно, относится и к любой другой политической форме. Слова Михаила Юрьева "империя - это такое государство, у которого существуют некие цели, выходящие за пределы элементарного поддержания собственного существования и роста материального благосостояния подданных" попросту бессодержательны, поскольку государства, не имеющие таковых целей, никак не апеллирующие к миру ценностей, оказались бы напрочь нелегитимны и потому в природе не наблюдаются. (Отдельный смешок вызывает, конечно, еще и сам по себе пассаж "империя - это такое государство", выдающий полное незнакомство с предметом. В науке довольно давно общим местом стало понимание того, что империя - вообще не государство structo sensu, что это сущностно другой и в некоторых отношениях диаметрально противоположный государству тип политической организации).
Империя же представляет собой определенный тип сопряжения мира политики с миром ценностей, причем ценностей не локальных и партикулярных (что как раз характерно для государства), а универсальных и абсолютных, при этом с предельной напряженностью переживаемых и воплощаемых в политическом конструировании. Имперскому проекту служат разнообразные и часто изощренные политические технологии; но сама она технологией не является. В определении же Дмитрия Володихина долго и с упоением перечисляются внешние признаки чаемой империи: "мультиэтничное государство с ярко выраженным иерархическим устройством, достаточно крупное по территории и мощное в политическом, экономическом, военном и демографическом отношении, чтобы претендовать на ведущую роль в регионе, с развитой системой внутренних силовых структур, с центром, который вырабатывает доминирующую идеологию, устанавливает определенный порядок в ряде вопросов администрирования (транспорт, финансы, суд, важнейшие законы и т.п.), обязательный и равный для всех провинций государства" - но какая во всем этом внутренняя необходимость, кроме тех специфических наслаждений, которые сулят "ведущая роль в регионе", "развитая система силовых структур" и "доминирующая идеология", покамест непонятно. Затем следует дополнение: "стратегическая деятельность центра опирается на господствующую культуру, являющуюся плодом исторического творчества "несущей нации". В случае России таковой является русская православная культура". Ценности в этой модели так и не появляются; "культуре", причем непременно "господствующей", отводится служебная роль опоры для "стратегической деятельности центра", причем сама культура, в свою очередь, производна от загадочной "несущей нации". Любопытно было бы узнать, с какого времени Володихин считает возможным использовать термин "нация" применительно к российской истории. Впрочем, нет - даже и не любопытно. Чур меня, чур… Однако изумительную интеллектуальную девственность подобных любителей порассуждать об империи, не ознакомившись хотя бы поверхностно с литературой вопроса, прекрасно показал Алексей Миллер (на примере текста Михаила Юрьева), и к сказанному им на этот счет мало что можно добавить. Позже к теме империи обратился, правда, еще и Александр Дугин, но тут уж уста прямо-таки немотствуют.
В общем, из текстов Володихина и Юрьева (и многих подобных) хорошо видно, что в них в имперскую оболочку упаковывается довольно банальная этнонационалистическая программа, а имперская риторика играет роль маркетинговой стратегии, призванной повысить объемы продаж на политическом рынке, и не более. Дополнительным подтверждением тут служит изоляционистский вектор этих проектов - вместо империи как открытого, включающего (inclusive) политического организма предлагается организм закрытый и исключающий, что соответствует модели национально-государственной, никак не имперской. Но главное - природа тех ценностей, вокруг которых предлагается строить новый имперский проект. Ценностный голод - безусловно, главнейшая проблема современной российской политики. Однако он вовсе не извиняет "неразличения духов", готовности производить и потреблять любые символические продукты, лишь бы они представляли собой хоть какую-то альтернативу обрыдлой прагматике долларов и баррелей. Если абсолютные ценности подменяются партикулярными, если вместо порыва к трансцендентному рекомендуется националистическое идолопоклонство (а это именно так: даже православию в володихинских построениях, несмотря на всю сопровождающую его упоминания благочестивую фразеологию, отводится сугубо инструментальная по отношению к нации роль - оно ведь тоже трактуется как "плод исторического творчества" пресловутой "несущей нации", в полном забвении того, чьим Телом является Церковь), то речь идет вообще не об империи, а о псевдоморфозе с легко предсказуемой судьбой.
Если же обратиться к ценностям действительно абсолютным и универсальным, то ведь и они могут быть разными. Таковы христианские ценности; но таковы и исламские; и буддистские; и коммунистические; и ценности Просвещения; и нельзя исключать появления новых ценностных комплексов, с большим или меньшим основанием претендующих на подобный статус. В аналитических целях допустимо принять дюркгеймовское представление о сакральном, исключающее постановку вопроса о сравнительной истинности различных sacrum'ов - но политический, моральный и экзистенциальный выбор ответа на него все равно потребует. Это не выбор "за" или "против" империи - империя может строиться вокруг разных ценностей. Именно этим прежде всего отличались Российская империя и СССР или, скажем, Первый, Второй и Третий Рейх. Империя как форма ценностно нейтральна - тут я, к сожалению, вынужден не согласиться уже с точкой зрения Паина, отождествляющего империю с насилием и угнетением. В подтверждение он цитирует Доминика Ливена ("Власть над многими народами без их на то согласия - вот что… предполагают все разумные определения этого понятия") и Марка Бейссингера ("нелегитимное отношение контроля со стороны одного политического сообщества над другими"); но есть ведь и другие, менее оценочные и не менее почтенные дефиниции, скажем, Чарльза Тилли ("крупная внутренне неоднородная полития, элементы которой связаны с центральной властью системой опосредованного правления [indirect rule]" [2]. Либеральная "империофобия" зеркальна антилиберальной "империофилии". Отношение к любому политическому проекту для России должно определяться не тем, имперский он или нет, а прежде всего тем, во имя каких ценностей его предполагается осуществить. Имперский же проект может основываться и на универсальных ценностях свободы и справедливости - почему нет? Ничто в имперской форме не противоречит этому содержанию.
Одновременно с этим уровнем проблематизации разговор об имперских перспективах России должен вестись и на гораздо более приземленном и прикладном - на уровне инвентаризации существующих сейчас и потенциально способных открыться в обозримом будущем "окон возможностей", а также ресурсов, необходимых и достаточных для того, чтобы им воспользоваться. Участники дискуссии крайне редко размышляют в этом ключе, предпочитая модус долженствования трезвой оценке наличного положения вещей. Паин совершенно прав, уподобляя володихинское предложение "снять с повестки дня глобализм" предложению запретить генетику или компьютеризацию (на самом деле тут, конечно, буквально проявило себя хорошо известное желание "закрыть Америку").
Наличное же положение вещей описывается прежде всего двумя обстоятельствами. С одной стороны, Россия в ее нынешнем положении не имеет ресурсов для реализации собственного имперского проекта. Ни материальных (стабилизационный фонд, при всем уважении к его создателям, на эту роль явно не годится - в масштабах убитой в том смысле, в каком говорят о квартирах, огромной страны он совсем невелик), ни инфраструктурных, ни технологических, ни демографических, ни, что важнее всего, ценностных. Моральная деградация народа и элит, чудовищный дефицит межличностного доверия и тем более доверия к институтам, в первую очередь к государственным, проистекающая отсюда крайняя степень атомизированности общества etc., etc. исключают возможность реализации какого бы то ни было мобилизационного проекта - в особенности мотивированного идеально, а не прагматически, каким должен был бы быть проект имперский. Конечно, можно уповать, что все эти социальные недуги чудом преобразятся в свою противоположность и миру предстанет обновленная Россия - только желательно отдавать себе отчет в том, что уповаешь именно на чудо. И даже в его ожидании лучше бы заняться изнурительным многолетним трудом по приведению в порядок собственного дома и нравов его обитателей (в соответствии с приписываемой Леониду Смирнягину формулировкой национальной идеи: "Поправь забор, не сс… в подъезде"), а не ввергать их в очередную авантюру с негодными средствами.
С другой стороны, Россия существует не в геополитическом вакууме, а в мире, в котором уже реализуется имперский проект: империя Запада. Опуская всю аргументацию этого тезиса[3], подчеркну одно важнейшее обстоятельство: империя Запада, в отличие от исторических предшественниц, достигла не интенциональной, а фактической глобальности, оплетя своими информационными, финансовыми, военно-политическими, культурными сетями весь мир. Даже ее самые яростные оппоненты находятся внутри империи, а не вне ее. В этом смысле глобализация завершена. Для второй империи теперь просто не осталось места. Оно может освободиться, только если погибнет первая (такие пророчества звучат - впрочем, не первое десятилетие и даже столетие). Иные из нас могут недолюбливать Запад и особенно Америку, которая и впрямь дает для такого отношения немало оснований. Любить Запад, конечно, не обязательно; достаточно любить Россию, чтобы задуматься о том, что ее ждет, если рухнет глобальная гегемония Запада? Россию, которая по вышеописанным причинам никак не сможет мгновенно занять освободившееся место? С кем она останется лицом к лицу (Игорь Яковенко очень к месту напомнил печальную историю византийского архидука Нотараса…)? И что через некоторое время останется от нее?
Эти сугубо рациональные вопросы, конечно, не остудят горячих антизападных голов - разум, как правило, бессилен против иррациональных, сверхценных установок. Но можно и снова вернуться к разговору о ценностях. Запад, несмотря на далеко зашедший процесс секуляризации, от христианского корня (причем, как показал в своих работах покойный Алексей Салмин, сама возможность секуляризации создана некоторыми уникальными особенностями христианской религиозности). Все разговоры о так называемой "бездуховности Запада" гроша ломаного не стоят - видимо, их любители никогда не видели репортажей о миллионах европейцев, собирающихся на папские мессы, ничего не слышали о бескомпромиссной, пламенной вере, которую сохранили многие протестантские деноминации (хотя о Джордже Буше-мл., право, трудно не слышать совсем ничего), ничего не знают о бесчисленных делах милосердия, вполне бескорыстно творимых якобы погрязшими в материализме и потреблении гражданами западных стран (и не желают сравнивать с российскими хотя бы статистические данные по отказам от новорожденных детей и по их последующему усыновлению). Как это ни горько признавать, Россия сегодня, после того ХХ века, который она себе устроила, гораздо более "бездуховна", чем Запад (впрочем, и сто лет назад, судя по той легкости, с которой народ отдал страну богоборческой большевистской банде, все было тоже далеко не прекрасно).
И все-таки Россия от того же христианского корня, что и Запад. Давние церковные разделения между нами, конечно, очень болезненны, но надо совершенно ничего не понимать в христианстве, чтобы не отдавать себе отчета, скажем, в том, что пропасть, отделяющая восточное православие от западного католичества, неизмеримо менее глубока, чем пропасть между теми же католиками и отвергающими апостольское преемство протестантами. Тем не менее Запад, пройдя через жесточайшие религиозные войны, сохранил себя как многосложное, составное целое - и даже смог воздвигнуть собственную империю. Что мешает России признать эту империю и своей тоже? Тем более что речь тут совершенно не идет ни о каком экуменизме, соединении Церквей и т.п. Находится же в составе Запада, не испытывая от этого сколько-нибудь серьезного дискомфорта и не поступаясь собственной идентичностью, вполне православная Греция! Точно так же вхождение в империю не имеет никакого отношения и к активно обсуждаемой сейчас угрозе "внешнего управления" - Россия по целому ряду самоочевидных причин может занять только место в ядре империи (или даже получить статус второго ее ядра), а никак не на имперской периферии. Вокруг каких еще ценностей, если не христианских, i.e. западных (вновь нужно повторить: даже в своем нынешнем секуляризованном, превращенном виде западные ценности генетически суть ценности именно христианские, причем наличествуют и силы, ведущие упорную борьбу за восстановление их изначального, неповрежденного вида), предлагается строить альтернативную империю? Не возводится ли в этом навязчивом желании в абсолют именно ее непременная альтернативность западной, достигаемая любой ценой, даже ценой утраты самой России? Летописные слова "своя же свои не познаша" имеют грустное продолжение: "…и побиша".
Но Россия не может войти в эту империю (точнее, не может двинуться вообще куда бы то ни было), не преодолев того межеумочного состояния, в котором сейчас находится, не самоопределившись как политическое сообщество. Такое самоопределение требует формирования комплекса внятных (и для самих себя, и для окружающего мира) представлений о природе сообщества, о его границах, о критериях и условиях членства в нем, о его происхождении и предназначении, о ценностном и символическом фундаменте его солидарности. Самоопределившееся подобным образом сообщество принято называть политической нацией, а процесс его консолидации - nation-building. Выиграв в конкурентной борьбе с иными политическими форматами, нации в современном мире стали общепринятым и, пожалуй, единственным легитимным типом политической организации. Именно из них, как из "кирпичиков", слагается миропорядок - сиречь империя. Собственно, почти об этом говорится в одном из тех немногих фрагментов дугинского текста, где присутствуют хотя бы некоторые признаки смысла: "после распада СССР построить на базе РФ государство-нацию, потом его модернизировать, сформировать из россиян "гражданское общество" и благополучно раствориться в общечеловеческой цивилизации. Такова логика модерна". При чем тут модерн, решительно непонятно; но подвох в другом. Перспектива "растворения" - это пугало, размахивать которым можно только от полного неверия в силы собственной страны и культуры (предъявите список уже "растворенных"! Швеция? Греция? Япония? Австралия?). Вхождение в империю означает не отказ от собственной идентичности, а дополнение ее новой, зонтичной, объединяющей многих и разных в их приверженности универсальным ценностям, гармонирующим с их собственными и уникальными. Такое вхождение принципиально невозможно только в том случае, если чьи-то уникальные ценности вступают в непримиримый конфликт с универсальными, в обсуждаемом случае - с христианскими. Тогда это нужно прямо признать. Но откровенные язычники и идолопоклонники в наших широтах встречаются редко. Все больше прикровенные.
Что же сейчас происходит со строительством российской нации, какие затруднения, в том числе ценностного свойства, возникают в этом процессе и как его стоило бы скорректировать? По стечению обстоятельств совсем недавно я в соавторстве с Ириной Каспэ опубликовал статью, целиком посвященную именно и буквально этим вопросам[4] - пересказывать ее заново было бы глупо. Вместо этого имеет смысл задуматься о другом - о том, кто, какие активные группы и институты могут рассматриваться как субъекты nation-building и одновременно как гаранты его приведения к тому результату, желательность которого тут постулируется (то есть к формированию консолидированной российской политической нации и ее интеграции в состав Запада)? Вообще тема субъектности в актуальной российской политике - одна из самых болезненных, как то неоднократно констатировалось и в ходе дискуссии. Кто вообще сегодня имеет силу действовать со сколько-нибудь серьезными шансами на результат? Парадоксальный тезис Алексея Чадаева "единственный способ создать в России оппозицию - учредить её указом президента", натурально, вызвал шквал саркастических комментариев; но ведь нельзя же не признать, что существенная черта нашей политической реальности в нем схвачена.
Разумеется, исчерпывающим и реалистичным образом ответить на вопрос о субъектах nation-building, предъявить их перечень с "явками и паролями" не удастся. Бессмысленно и рассматривать, как это часто делается, в качестве таких субъектов крупные социальные страты ("средний класс" вообще, "молодежь" вообще…). Однако следует иметь в виду следующие обстоятельства:
1. Нации как "воображаемые сообщества" создаются интеллектуалами - конечно, не только ими, потребны и люди практические, но без участия интеллектуалов эта работа не может быть выполнена, просто потому, что конструирование символических форм и образцов и есть их прямая социальная функция. Интеллектуал, как известно, умеет три вещи - читать, писать и говорить, чем и занимаются участники вот этой самой дискуссии. Все они ipso facto являются участниками процесса nation-building. Можно скептически оценивать эффект каждого отдельно взятого текста, доклада или лекции (и он действительно в 999 случаях из 1000 окажется мизерным), но иных вариантов все равно нет. Критическая масса копится по миллиграмму. Интеллектуальное сообщество и есть субъект строительства нации. Правда, какое сообщество, такой, mutatis mutandis, окажется и нация - из этого грустного факта, кстати, следовало бы сделать некоторые морально-гигиенические выводы.
2. Сам процесс писания и говорения на соответствующие темы вполне может быть организован более эффективно, превращен из нынешней какофонии в согласованную, когерентную трансляцию определенных сообщений в узловые точки публичного (и непубличного тоже) политического пространства. Кстати, недурным примером такого технологического подхода в первом приближении может служить раздел текста Володихина "Русский консерватизм: политическая тактика". Описанные в нем приемы никак не связаны содержательно с самим "русским консерватизмом", вполне адекватны актуальным отечественным реалиям и с некоторыми поправками могут быть взяты на вооружение и другими субъектами.
3. Те же субъекты, которые смогут обратить слово в дело, в принципе не могут быть идентифицированы a priori - "до опыта". Как заметил Виктор Шкловский, "если бы некто захотел создать условия для появления на Руси Пушкина, ему вряд ли пришло бы в голову выписывать дедушку из Африки". Это верно и в отношении политики: кто мог предположить, что для низвержения коммунистической власти надо было в 1968 г. перевести на партийную работу начальника Свердловского домостроительного комбината? Субъекты действия, конечно, могут и вовсе не появиться - никаких гарантий тут нет и быть не может. Но без подготовленной для них почвы они не появятся заведомо. Именно "окультуриванием" почвы следует заниматься тем интеллектуалам, которые хотели бы, чтобы российская политическая нация организовалась вокруг ценностей свободы (в разных ее измерениях) и благодаря этому заняла бы приличествующее ей, достойное место в составе западного мира.
4. Круг субъектов, потенциально способных сыграть эту роль, несколько шире, чем обычно принято считать - любить свободу вообще-то способны не только либералы (кстати, откуда еще можно исторически достоверно вывести восприятие свободы как ценности, если не из христианского принципа свободы воли?). Вполне допустимо, например, рассматривать в этом качестве Церковь, которая, кстати, в современной России является одним из немногих действительно автономных акторов. Во всяком случае, внимательное чтение "Основ социальной концепции РПЦ" дает для такого рассмотрения достаточно оснований - и совершенно не позволяет, вопреки распространенному в светских либеральных кругах мнению, автоматически зачислять Церковь в разряд врагов свободы.
И последнее - как раз в связи со свободой воли. Александр Янов хорошо показал, какое значительное место в этой дискуссии занимает представление о некоей самодовлеющей "российской традиции", жестко детерминирующей вектор российской истории и якобы исключающей всякую возможность придать отечественному политическому укладу какие-то еще черты, кроме авторитарно-патриархальных. Но дело не только в том, что сами описания этой традиции (кстати, как и апологетические, так и критические) основаны на радикальном упрощении исторических реалий и не выдерживают элементарной научной критики. Дело и в том, что приписывание какой бы то ни было традиции качеств "непреодолимой силы" противоречит тому простому и, кажется, неопровержимому соображению, что история творится людьми. А люди - свободны. Политические культуры и тела пластичны и поддаются в том числе и рациональному (тем более - ценностно мотивированному!) преобразованию. Разумеется, не любому, какое только заблагорассудится, - выше говорилось об "окнах возможностей". Но произвольно исключать целые ветви сценариев, ссылаясь только и исключительно на "вековую традицию", недопустимо. То, что Россия никогда в своей истории не функционировала как демократическая нация, само по себе не означает, что она вообще к этому не способна (тем более, что первичные предпосылки для ее перехода в это агрегатное состояние наконец созданы). До известного момента Турция тоже не была светским государством, Япония - демократией, а Великобритания и Франция не умели обходиться без колониальных владений, и что с того? В фильме "Терминатор" лейтмотивом звучат слова: "Будущее не предопределено". Эта максима в полной мере приложима и к российской государственности. Другое дело, что будущее надо создавать. В частности, создавать нацию. И любить свободу.
1 Ограничусь упоминанием только некоторых особенно нашумевших текстов: Хардт М., Негри А. Империя - М.: Праксис, 2004; Ignatieff M. The Burden // New York Times Magazine. 05.01.2003; Ferguson N. Empire: the Rise and Demise of the British World Order and the Lessons for Global Power - N.Y.: Basic Books, 2003; Idem. Colossus: The Rise and Fall of the American Empire - N.Y.: Penguin Books, 2005.
2 Tilly C. How Empires End // Barkey K., von Hagen M. (eds.) After Empire: Multiethnic Societies and Nation-Building - N.Y., L.: Westview Press, 1997. - P.3.
3 Она изложена в моих статьях: Империя под ударом. Конец дебатов о политике и культуре. // Полития. 2003. № 1; Десять вопросов к империи Запада // Космополис. 2003. № 4 (6); Империя как руина и строительный материал: "nation-building" в современной России // Политическая наука. 2004. № 3; в наиболее сжатом виде - Размышления у входа в империю // Эксперт. 2005. № 39.
4 Поле битвы - страна. Nation-building и наши нэйшнбилдеры // Неприкосновенный запас. 2006. № 6 (50). Электронная версия: http://www.nz-online.ru/index.phtml?aid=80016969.
________________________________________________
Алексей МИЛЛЕР,
профессор Центрально-Европейского университета
ДЕМОКРАТИЯ ЭТНИЧЕСКОГО БОЛЬШИНСТВА?
(о русском проекте Валерия Соловья)
Я уже комментировал в ходе этой дискуссии текст Михаила Юрьева, и вторично брать в ней слово у меня намерений не было. Но после прочтения выступления Валерия Соловья появилось желание отреагировать и на его идеи. И прежде всего потому, что обнаруживается поразительное сходство между позициями двух этих авторов.
На первый взгляд, перед нами непримиримые оппоненты. М.Юрьев утверждает, что Россия может существовать только как империя и потому должна озаботиться возрождением себя именно в этом качестве. В.Соловей, наоборот, полагает, что "Россия исчерпала морально-психологические и идеологические ресурсы имперского строительства", что призывы к такому строительству утопичны и вредны и что нам нужно думать о формировании государства-нации. И в этом я с В.Соловьем согласен. Но я не могу согласиться ни с тем смыслом, который он вкладывает в понятие государства-нации, ни с аргументами, которые использует для обоснования своей позиции и которые в конечном счете и сближают его с М.Юрьевым.
Попробую это доказать, но начну все же с другого. Начну с того, как представляет себе В.Соловей главных противников своего проекта и где их ищет.
"У нас, - пишет он, - почему-то считается неприличным и неполиткорректным публично говорить о том, что существует отчетливая корреляция между приверженностью имперской идее и этничностью. Среди сторонников этой идеи слишком много нерусских и полукровок. Скажем, Сергей Кургинян - обрусевший армянин, Сергей Марков и Михаил Юрьев - полуевреи. Дело не только в том, что они армяне или евреи. В конце концов, среди имперцев немало и русских. Важна мотивация. Инородцам и полукровкам нужен имперский горизонт, потому что им было бы некомфортно жить в русском национальном государстве".
Это одновременно поразительно лукавый и поразительно честный пассаж.
Его лукавость в том, что тезис об "отчетливой корреляции между приверженностью имперской идее и этничностью" (читай - нерусскостью) вынесен вперед, а дезавуирующая его оговорка ("среди имперцев немало и русских") представлена как частность. Равно как и в том, что "обрусевший армянин и полуевреи" в следующей фразе становятся "армянами и евреями", которым русского народа не жалко.
На мой поверхностный взгляд телезрителя (ни с одним из называемых далее людей я лично не знаком), С.Маркову и С.Кургиняну не жалко никого, кроме себя. Однако никаких существенных отличий в данном отношении между ними и "арийски чистыми" имперцами А.Дугиным и А.Прохановым я, при всем желании, обнаружить не могу. Наблюдая г-на Проханова в моменты, когда ему в ходе публичных дебатов удается достичь высот душевного волнения, мне кажется, что ему не жалко и себя. Точность моих наблюдений и причины этого явления можно обсуждать. Но в любом случае навязываемое нам мнение о том, что "имперец" Проханов искренне заблуждается, а Кургинян, Юрьев и Марков "имперцы" исключительно потому, что в одном течет армянская кровь, а в двух других - еврейская, по причине чего всем троим "русских не жалко", не просто бездоказательное и жульническое. Мне лично оно представляется намного более неприличным, чем публичное и громкое испускание кишечных газов.
Честность же этого пассажа состоит в том, что В.Соловей открыто признает: инородцам и полукровкам "было бы некомфортно жить в русском национальном государстве", каким его видит автор. Он, правда, нигде и ничего не говорит о том, что именно создаст для них дискомфорт. Но косвенных указаний на то, что полноценными гражданами России, согласно проекту, могут быть только русские, в тексте более чем достаточно. Для других в формулировках В.Соловья ("государство русского народа", "гораздо важнее, что думают по данному поводу сами граждане России, что думают русские", "этого хотят и все русские, подавляющее большинство граждан России") места не находится. Курсив, правда, везде мой, но авторскую мысль, думаю, он не только не искажает, но и проясняет.
А русские, как нетрудно заметить (в дополнение к сказанному выше о селекции по составу крови см. критерии, на основании которых фиксируются отличия русского, украинского и белорусского народов), - это для В.Соловья характеристика генетическая. Похоже, он согласился с критикой известного сторонника биологического подхода к нации А. Севастьянова, упрекавшего В.Соловья в том, что тот портит свой тезис о генетической природе нации оговорками насчет того, что у нее есть еще и обусловленность социально-культурная[1]. Во всяком случае, украинцы теперь в глазах В.Соловья отдельный народ прежде всего потому, что отличаются от русских генетически. А если бы генетически не отличались, то на статус отдельного народа претендовать не могли бы? А миллионы обрусевших (т.е. считающих себя русскими) украинцев или татар - они кто? Что, гены у них тоже "обрусели"? Или, может быть, с этими генами в "государстве русского народа" еще предстоит разбираться?
Впрочем, кое с кем предстоит разобраться уже сейчас - иначе никакого такого государства может не быть. "Осуществиться государству русского народа препятствует прежде всего наша элита, которая отчуждена от основной массы населения социально, культурно, экзистенциально и во многом этнически - надо называть вещи своими именами". Что ж, назовем вещи своими именами и мы. В.Соловей сознательно или бессознательно проповедует расовый, нацистский национализм, от которого прямая дорога к замеру черепов, анализу ДНК и нюренбергским законам. Не знаю, облюбовал уже себе автор место обмерщика черепов или где-то рядом с ним, либо пока еще на сей счет всерьез не размышлял. Но, судя по всему, надеется, что в "государстве русского народа" жить и творить ему будет комфортнее, ибо с оппонентами и конкурентами в лице "инородцев и полукровок" иметь дело больше не придется.
Кстати, один фрустрированный господин, использовавший этот способ перераспределения статусов, был плохим художником; среди его последователей, насколько можно судить по тексту В.Соловья, могут встречаться и неважные историки. Хороший историк никогда бы не написал, что "общим принципом ее (России. - А.М.) экспансионистской политики" было то, что "российская империя создавалась за счет территорий, которые в технико-экономическом и военном отношениях от России заметно отставали". Потому что хороший историк знает: западные окраины Российской империи в момент их аннексии и в культурном, и в "технико-экономическом" отношении заметно превосходили центральные области. И в других случаях, когда В.Соловей заводит речь об истории, он дает основания усомниться в своей профессиональной квалификации.
Но это, в конечном счете, не главное. Главное в том, что автор, конструируя образ постимперской отечественной государственности, привносит в этот образ черты, свидетельствующие о наличии в сознании конструктора предрасположенности к расовым или генным теориям. И при этом он, похоже, плохо осведомлен не только об истории Российской империи, но и о традиции русской националистической мысли, отнюдь не одномерной, равно как и о состоянии современного российского общества.
Особенность всех крупных наций, формировавшихся в ядре империй, - их ассимиляторский, этнически открытый характер. В России это хорошо понимали, и поэтому расовые теории, популярные в Х1Х веке, особенно в Германии, не получили здесь широкого распространения. И потому же такие ключевые фигуры русского национализма позапрошлого столетия, как, например, С.С.Уваров или М.Н.Катков (П.Б.Струве не берем как "генетически неполноценного"), очень удивились бы тому, как В.Соловей понимает русскость и как из наличия у человека определенной доли "инородческой" крови выводит антирусскость. "Было бы в высшей степени несообразно […] с политическими и национальными интересами России, - писал Катков в 1866 году, - отметать от русского народа всех русских подданных католического или евангелического исповедания, а также еврейского закона, и делать из них, вопреки здравому смыслу, поляков или немцев". Но что В.Cоловью до какого-то Каткова? Ведь и сам русский народ, от имени которого он выступает, ему, судя по всему, не очень-то интересен в его реальных, а не желательных для автора умонастроениях.
Дело в том, что подавляющее большинство граждан России думает так, как думал когда-то Катков, а не так, как думает сегодня за них В.Соловей. На вопрос, кого можно считать русским, 41% отвечает: "того, кто воспитан на русской культуре и считает ее своей"; 37% - "того, кто любит Россию"; 29% - "того, кто считает себя русским". Сторонников того, чтобы считать русскими тех, чьи родители русские, - 26%; тех, "кто русские по паспорту", - 10%. Столько же полагает, что русский есть синоним православного. И это - устойчивая пропорция, воспроизводимая в опросах из года в год [2].
Нет, не состав крови и не гены, а самоидентификация и культура являются критериями членства в нации, причем не только для большинства современных исследователей общества и русских мыслителей прошлого, включая значительную часть националистически ориентированных, но и для преобладающей части граждан России. Однако В.Соловей не хочет, чтобы люди сами определяли свою национальную идентичность. Это он хочет определять, кто русский, а кто нет. Интересно, уверен ли сам В.Соловей, что какая-нибудь из его прабабок не переспала с немцем, поляком, грузином или, прости господи, евреем? Себе-то анализ ДНК делал?
Обратите внимание, как охотно он ссылается на социологические данные, якобы подтверждающие его тезисы, не приводя при этом ни одной цифры. Думаю, что не случайно. Такие ссылки без ссылок позволяют В.Соловью говорить от имени всех русских - "русские хотят", "этого хотят и все русские". Уверяю, нет ни единой вещи, даже самой прекрасной, которой бы хотели все русские, все французы или все немцы; даже жить хотят не все. Но подобные "обобщения" позволяют риторически конструировать образ единой национальной воли, у которой есть свои выразители, говорящие от имени русского народа. В.Соловей, похоже, не сомневается, что роль эта ему подходит. А если некий Миллер имеет иное мнение о том, как большинство населения страны определяет русскость, а также о том, как следует понимать национальное государство, то спорить с ним очень легко. Точнее, с ним вообще нет нужды спорить по существу, потому что он полукровка и ему "русских не жалко". Приватно хочу предупредить г-на Соловья, что во мне вполне достаточно "генов" от моего русского деда, рязанского кулака, чтобы при встрече ответить на подобные аргументы по-простому, как они того и заслуживают.
Что означает их использование в публичной дискуссии? Оно означает, помимо прочего, что все рассуждения автора о России как полиэтническом, правовом и демократическом государстве не стоят ломаного гроша. Будь он озабочен "всего лишь" обеспечением законности и гражданского равноправия, вряд ли, думаю, стал бы городить весь этот идеологический огород с песнопениями в адрес "государства русского (генетически проверенного? - А.М.) народа" и инвективами против "инородцев и полукровок". Неужели достаточно его, государство, так назвать, чтобы оно стало демократическим и правовым? А если недостаточно, то что нужно еще, чтобы оно таким стало? Ответа нет, как нет и обремененности самим вопросом. Учитывая, однако, подозрительное отношение В.Соловья к нерусским этничностям и его же предрасположенность объяснять иные, чем у него, идеологические и политические позиции безжалостным отношением "инородцев" к русским, расшифровка его замысла не покажется очень уж непосильным делом.
Демократия и право, которые предполагают, среди прочего, защиту прав меньшинств, причем не только этнических, у г-на Соловья оказываются демократией и правом для этнического большинства. Именно оно и должно устанавливать правовые нормы, не обращая внимания на то, что думают по этому поводу разного рода меньшинства и предписывая их исполнение с помощью соловьевских "пряников" и "кнутов". Первые, понятно, должны быть исключительно символическими. А как со вторыми?
Говоря о действительно важной и сложной проблеме, унаследованной Россией от СССР, а именно - о территоризации этничности и связанной с этим дискриминации нетитульных этнических групп в национальных территориальных образованиях, автор выражается вполне ясно: "Пусть они боятся обидеть русских"; "всем будет предложен простой и понятный выбор: подчиняться российским законам или лететь на Луну и строить там свое государство". Ну да, в Казахстан теперь не сошлешь! Очередной пример нашего давнего интеллектуального недуга - всякая сложная проблема должна иметь простое решение. Или соглашайтесь, или отправляйтесь на Луну! А ну как и на Луну не полетят, и не испугаются? Будем учить бояться? Начнем с демократии, а чем кончим? Советую, кстати, г-ну Соловью почитать недавнюю книгу Майкла Манна, в которой он показывает, что геноцид и этнические чистки вполне возможны и даже весьма вероятны именно при демократии, если она понимается как власть этнического большинства [3].
Я не излагаю здесь свою точку зрения на проблему территоризации этничности, как и свою позицию по другим вопросам, касающимся строительства в России государства-нации. Интересующихся моим мнением отсылаю к лекции, прочитанной мной в Билингве [4], и к статье "Нация как рамка политической жизни", которая выйдет в летнем номере журнала "Pro et Contra". В данном же случае я вижу свою задачу в другом. Чтобы продвинуться в представлениях о том, каким может и должно быть российское государство (цель, поставленная организаторами дискуссии), нужно, мне кажется отдавать себе ясный отчет и в том, каким оно в современном мире быть не может. Поэтому я счел необходимым высказаться по поводу имперских фантазий Михаила Юрьева. Поэтому же пишу эти заметки по поводу антиимперского национализма Валерия Соловья.
Я начал с констатации поразительного сходства их идеологически разнонаправленных проповедей. Оно не только в том, что они проповеди. И даже не только в том, что оба автора претендуют на выведение России с помощью своих проектов из обнаруженного ими экзистенциального тупика, на возвращение русским якобы утраченного ими смысла существования. Сходство прежде всего в том, что им одинаково видятся исторический маршрут, на котором может быть возвращен утерянный, по их мнению, смысл, и способы его обретения.
Послушаем В.Соловья.
"Революция низкой интенсивности, социальная война всех против всех в России вполне может начаться, - прогнозирует он. - Более того, вхождение России в новую Смуту я считаю весьма высоковероятным и даже практически неизбежным. В ходе такой Смуты, к сожалению, многие достижения будут пущены под нож. Но я не вижу другого пути решения стоящей перед страной проблемы элиты […] Я понимаю, что в квазиреволюционном механизме перехода от нынешнего государства к нормальному национальному демократическому государству русского народа есть нечто пугающее. Но, боюсь, другого пути не будет. Нам придется пройти через какую-то полосу хаоса, и остается надеяться, что этот период окажется недолговечным".
А теперь вспомните, а если забыли, то перечитайте пророчества Михаила Юрьева. Он ведь тоже видит выход из созданного его воображением экзистенциального тупика в войне всех против всех - правда, не столько внутри страны, сколько в глобальном масштабе. Он тоже начинает с осторожного предположения, что война возможна, а заканчивает утверждением, что этот сценарий неизбежен. Но констатация неизбежности чего-то означает и призыв готовиться к неизбежному, равно как и его упреждающую легитимацию.
Вроде бы один за империю, другой за нацию, а глядишь - оба за войну. Оба хотят срочно помочь русским найти смысл жизни, полагая, очевидно, что без них людям никак не справиться. И обретение этого смысла оба не мыслят без социального катаклизма огромных масштабов, убеждая нас в том, что сценарий более или менее спокойной, нормальной, мирной жизни, где можно заниматься практическим обустройством индивидуального и семейного бытия, а также страны, общества, дорог, городов, сел и придворовой территории, - это не для нас. Наконец, оба подводят читателя к мысли, что многие ограничения, которые принято уважать, уже не действуют: один "таблетками правды" предлагает кормить подозреваемых в преступлениях, другой "инородцев" на Луну отправлять. И интеллектуальное качество одинаковое - тот же жанр псевдонаучной проповеди при отсутствии даже намека на какую бы то ни было положительную программу, которую можно было бы обсуждать.
Впрочем, М.Юрьев, отдадим ему должное, хотя бы не обещает нам торжества демократии как результата всемирной бойни. А В.Соловей обещает вырастающее из Смуты русское демократическое государство. Смута решит, наконец, "проблему элиты" и, надо полагать, по ходу своего развертывания не только словом, но и делом объяснит "инородцам", что значит "бояться русских". О том, какая "элита" выбрасывается обычно на политическую поверхность в смутные времена, автор предпочитает не распространяться.
Иными словами, В.Соловей обещает то, чего мир еще не наблюдал, - триумф демократии и права как результат войны всех против всех в многонациональной стране. И, можно предположить, готов играть в этой войне роль идеолога русских, воюющих против нерусских, и, в случае победы, принять в знак благодарности за заслуги все, что получают в таких случаях идеологи победителей. Ну, а если дело кончится крахом, т.е. новым государственным распадом, то идеолог сможет напомнить о том, что с самого начала выступал и в роли объективного аналитика, предупреждавшего и о возможности катастрофической развязки. Перечитайте под этим углом зрения текст г-на Соловья, и вам многое станет ясным. Такая вот высокоинтеллектуальная игра с судьбой страны, государства и народа. Таковы его, народа, сегодняшние новые друзья.
1 А. Севастьянов. Соловей русского национализма // Политический класс.2007, №26. Доступно в интернете: http://politklass.ru/cgi-bin/issue.pl?id=728
2 См.: Н.Тихонова. Постимперский синдром или поиск национальной идентичности?//После империи. М.: Фонд "Либеральная миссия", 2007. С. 172. Сумма процентов больше 100, потому что можно было дать два ответа.
3 Michael Mann. The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing. Cambridge University Press, 2005.
4 http://www/polit.ru/lectures/2007/04/19/nacija.html
________________________________________________
Александр ФИЛИППОВ,
зав. кафедрой практической философии Философского факультета ГУ ВШЭ,
руководитель центра фундаментальной социологии
Института гуманитарных историко-теоретических исследований ГУ ВШЭ
РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО СЕГОДНЯ
ПРАВИЛЬНЕЕ ВСЕГО БЫЛО БЫ ПОНИМАТЬ КАК ИМПЕРИЮ,
НАХОДЯЩУЮСЯ В СОСТОЯНИИ РАСПАДА
О ПРИМЕНИМОСТИ ПОНЯТИЙ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА К СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
ФЕНОМЕН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ГОСУДАРСТВА-НАЦИИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
НЕОБХОДИМОСТЬ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ
ПРИТУПЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ НАШЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РАНО
ИЛИ ПОЗДНО НАМ ВСЕМ АУКНЕТСЯ
О применимости понятий гражданского общества и государства к современной России
Контекст нашей дискуссии, посвященной прежде всего анализу текущего состояния российской государственности, предполагает знание о политической жизни нашей страны и тем самым создает для меня, как теоретика, определенную проблему. Каких-то конкретных обстоятельств нашей политической жизни я могу не знать. Но, с другой стороны, я могу взглянуть на ситуацию с точки зрения теории общества, критически рассмотреть теоретические ресурсы, которыми мы можем воспользоваться для анализа состояния нашей государственности, исследовать понятия политической и социальной теории на предмет различения тех, что пригодны для этой цели, и тех, которыми в нашем случае пользоваться нельзя.
Проблема отношений государства и общества предполагает определенного рода теоретическую схему. Такая схема присутствовала в дискуссиях о нашей государственности на протяжении всех последних лет, по моим наблюдениям- с тех самых пор, как у нас начались перестроечные дискуссии. Всё это время дискутирующие исходили из следующей схемы: существует государство, существует гражданское общество, но государство слишком сильно давит на гражданское общество, подминает его под себя. Поэтому решение состоит в том, чтобы дать гражданскому обществу немножко воздуха, дать ему возможность проявлять себя, создать условия для его самоорганизации. И как только это будет сделано, жизнь, соответственно, станет лучше, потому что правильная жизнь - это жизнь в условиях минимального государства, которое выполняет функции ночного сторожа (защита от внешней агрессии, социальное попечение над маломощными гражданами, не более того).
Итак, главное - активизация гражданского общества. Но ведь это просто схема, причем перенесенная к нам из зарубежных дискуссий и усвоенная совершенно некритически. Иными словами, прежде люди в России просто не знали, в каких понятиях обсуждать свои политические проблемы, потом появилась эта схема, и все стали оперировать понятиями гражданского общества и современного государства. Но в качестве основы для решения наших проблем сама эта схема, на мой взгляд, является принципиально неправильной.
Дело не только в пресловутой российской специфике. Находить эмпирический референт этой схеме всегда было нелегко. Тем более нелегко было найти эмпирический референт гражданскому обществу в России конца 1980-х - начала 1990-х годов. Мне представляется, что и сегодня с этим есть некоторые проблемы. И связаны они не только с тем, что, с определенной точки зрения, у нас недоразвито гражданское общество (а может быть, его и просто нет), но и с тем, что то же самое можно сказать и про государство.
Гражданское общество и государство как нечто ему противостоящее - парные понятия. Вспомним, как они появляются в европейской истории. Сначала считается, что гражданское общество - это и есть государство; соответствующая формула хорошо известна в европейской социальной теории. Потом выясняется, что это разные вещи, которые в определенном смысле даже противостоят друг другу.
В нашем же случае речь идет о ситуации, в которой не всегда можно точно сказать, с чем мы имеем дело - с государством или с гражданским обществом. Но если мы не можем этого сказать, то, соответственно, непонятно, о состоянии чего мы говорим. Конечно, когда мы говорим об определенных институтах гражданского общества, например, о неких негосударственных правозащитных организациях, то здесь все ясно. Это как бы такой классический пример. Но когда мы говорим о каком-то государственном, скажем, учебном заведении, где профессор по существу является наемным государственным служащим (не чиновником, разумеется, но служащим), то как определить этот случай? Да, деньги профессору платит государство, поскольку университеты и большинство прочих учебных заведений в значительной степени существуют на его средства - от него зависит, например, количество бюджетных студентов. И куда все это отнести - к государству или к гражданскому обществу? Принято считать, что это всё равно гражданское общество. Но на каких основаниях?
Хорошо, университеты - не политическая система, они выполняют какие-то другие функции. Но есть ли в их основе сколько-либо существенный элемент самоорганизации? Или это всего лишь особый институт, созданный государством с определенного рода целью? Да, он не политический, но, тем не менее, это институт, который создается государством и на который оно безусловно имеет преобладающее влияние. И если оно уйдет из российских университетов (не буду говорить, что станет при этом с образованием вообще), то любое прежде государственное учреждение высшего образования в одночасье рухнет, поскольку оно живет в основном на государственные средства. Коммерческие вузы не рухнут, но подавляющее большинство некоммерческих - рухнет. И сфера высшего образования - это только наиболее близкий мне пример.
Других мест, где то или иное участие, то или иное вмешательство государства или, как мы говорим иногда, властей, в высшей степени ощутимо, у нас очень много. Все это формирует мощный институциональный комплекс, где, если угодно, гражданское перетекает в государственно-политическое, а государственно-политическое перетекает обратно в гражданское. И проблема в том, что нормального названия этому комплексу нигде в теории не дается. Мы не можем назвать его правильным словом, а в результате морочим сами себя, принимая за безусловную истину банальную схему разделения и противостояния гражданского общества и государства.
Феномен Российской Федерации
Итак, попробуем разобраться. Исходно для Запада мы имеем модель, сочетающую государство-нацию и дополняющее его гражданское общество. Все выглядит вполне нормально. Но как нам сегодня описать природу нашего государства?
Если бы мы разговаривали десять лет назад, я, наверное, говорил бы более уверенно, как человек, стремящийся донести до своих оппонентов какую-то свою истину. Сегодня я склонен выражаться более осторожно. Я полагаю, что российское государство сегодня правильнее всего было бы понимать как империю, находящуюся в состоянии распада. Империи присущи некоторые важные особенности, которые не позволяют характеризовать ее как государство-нацию. Например, неопределенность границ. Империя может иметь четкие охраняемые границы, признаваемые другими государствами, но в ее устройство эти границы не заложены, она при определенном раскладе может их либо расширить, либо, наоборот, может коллапсировать. Она, например, имеет возможность распространять свое влияние таким образом, что будет реально присутствовать далеко за пределами своих границ - при том, что это не будет отражено ни в каких юридических формах.
Другая характерная особенность империи - ее внутренняя разнородность, существование в ее рамках отдельных сообществ, отдельных корпораций, культурных или территориальных образований. Она включает их в себя, но при этом не интегрирует в некое однородное целое, не имеет возможности и даже намерения довести этот неоднородный конгломерат до состояния полной однородности. С этой точки зрения, упадок империи выражается, в частности, в том, что на её пространстве образуется множество протогосударственных образований. Собственно, империя - колыбель государств. Так было в Европе, так, по существу, получается и у нас.
Протогосударства становятся государствами именно с разрушением империи, приобретая с этого момента некоторые характерные черты - такие, например, как суверенитет. В империи нет понятия суверенитета, поскольку нет понятия имперского суверенитета, оно появляется только в государствах, возникающих в рамках прежнего имперского пространства. Определяя себя в качестве суверенных государств, они, следовательно, гораздо более жестко формируют собственные границы, внутри которых обеспечивают столь высокую степень однородности, каковой не было и не могло быть во времена империи. Этот суверенитет государства выражается не только в недопущении им никакого вмешательства в свои внутренние дела и в проведении своей независимой политики, но также и в том, что внутри государства исчезают (подавляются или как-то иначе унифицируются) все те самостоятельные образования, которые внутри империи могли существовать совершенно спокойно.
Если мы посмотрим на старую карту Европы, то увидим, что там были разного рода герцогства, епископства, вольные города и проч., были самостоятельные средневековые корпорации. Когда же наступает эпоха современного государства, сначала абсолютистского, а потом буржуазного, ничего этого не сохраняется. Самостоятельность цехов в значительной степени редуцируется, все самостоятельные герцогства, епископства, княжества, вольные города упраздняются. Всё становится сильно приглаженным. И на этой основе появляется государство-нация.
Если мы посмотрим на то, что происходило у нас, то увидим, что во многих случаях государства, появляющиеся на пространстве империи-СССР, пытались идти аналогичным путем. Но я не буду говорить про другие постсоветские республики, поскольку в данной дискуссии нас интересует Россия. Так вот, в ней-то как раз ситуация выглядела совершенно иначе: здесь, говоря кратко, империя недоразрушилась.
Именно поэтому Россия до сих пор не может состояться в полном смысле как государство. И объявление ее государством суверенным, как и вообще педалирование вопросов российского суверенитета, часто вызывает насмешки и недоброжелательство либеральных критиков, адептов господствующей сейчас идеологии. Особенно, что касается этой действительно немного своеобычной формулы суверенной демократии. Но нарочитое подчеркивание суверенитета, помимо чисто технологической задачи (декларации наших намерений делать что хотим и предостережения от вмешательства в наши дела), обозначает еще нутряное ощущение необходимости акцентировать суверенитет, подчеркивая значимость этого наиболее явного атрибута государства - того российского государства, к созданию которого мы все так стремимся, но которое до сих пор никак не можем сформировать.
Потому что одного стремления к суверенности мало. Для того, чтобы государство появилось, должна произойти какая-то серьезная унификация, гомогенизация, повышение однородности социального пространства России. Делаются ли какие-то попытки в этом роде? С одной стороны - да, делаются. Мы видим, как в период нынешнего царствования происходит уничтожение или подавление различного рода самовластных структур, превращение губернаторов в чиновников. Это - типичная ситуация: вместо отдельных князьков, как бы их ни называть, появляются государственные чиновники, которые, как ни крути, зависят от суверена. Ликвидируются самовластные хозяйственные структуры, которые опирались прежде на в известной степени автономные политические и идеологические ресурсы, что позволяло им конкурировать с протогосударством. Мы помним все эти многочисленные истории, которые у нас официально называются борьбой с засильем олигархов. Главное, что в реальности при этом произошло - это не столько восстановление (восстанавливать, собственно, было нечего), а именно установление государства, т.е. формирование однородного государственного пространства с однородными государственными структурами.
Ключевой принцип построения такого пространства - наделение его субъектов не той степенью свободы, которую они могут себе отвоевать, а той степенью свободы, которую считает для них целесообразным государство. Но если попытаться посмотреть, что было сделано на этом пути, то выяснится, что очень мало. Да, в одном отношении, т.е. в отношении усиления однородности политического пространства и консолидации государства, было сделано сравнительно много. Но это же, в классическом виде, вещи нечленимые, это один комплект: государство как однородное замиренное пространство формирования гражданского общества в современном смысле. И вот этой второй составляющей было уделено мало внимания.
А отсюда следует, что проект государства-нации, видимо, даже не рассматривался всерьез, потому что государству-нации присущ некий специфический базовый уровень солидарности, некое ядро солидарности граждан. Важно именно наличие такого ядра, поскольку все поголовно не могут быть тесно сплоченными. Мы знаем, как появилось слово "нация" исторически: когда после победы Французской революции на страну напали враги, интервенты, нужно было найти какое-то слово, которое бы объединяло всех французов: мы из разных цехов, мы разного социального положения и разного вероисповедания, но мы все один народ, мы - нация.
Проблемы построения государства-нации на постсоветском пространстве
Идея с одним народом ("новая историческая общность - советский народ") один раз уже провалилась в СССР. Да и в постсоветский период попытка идеологически обосновать единство российского народа (ельцинское "россияне") толком не реализовалась. Такое единство не появляется само собой, оно всегда особым образом конструируется, и для того, чтобы его сконструировать, должна быть сформулирована политическая задача, или, как говорят современные политические мыслители, должен быть некий педагогический импульс, исходящий как от властей, так и от служащих им идеологов. Это должен быть педагогический импульс по конструированию нации из всего, что находится в пределах политического контроля протогосударства. Но от российской власти такого импульса не последовало, никаких специальных усилий по конструированию нации она не предприняла.
Напротив, вместо этого, насколько можно видеть, культивировались разнообразные очаги самобытности. Или, если не культивировались, то никак не подавлялись и не принуждались к унификации и политической однородности. Такая (по существу - имперская) традиция государственной политики делает бессодержательным сам разговор о некоем едином ядре солидарности российских граждан. У нас сегодня нет никакого "социетального" (по Парсонсу) сообщества, нет никакого ядра солидарности, нет никакой, пусть ограниченной, но отчетливо распознаваемой общности людей, являющихся носителями этого консенсусного, мобилизационного, культурного и пр. и пр. потенциала, который позволил бы власти (государству) говорить: я власть, а это народ, которому я служу.
Здесь я позволю себе немного отклониться от магистральной темы и обратиться к опыту других постсоветских государств. В отличие от России, у многих из них есть четкая установка на строительство государства-нации, но - в рамках этнического государства, т.е. нации на основе этноса (естественно, рассматривая этничность не биологически, а в качестве своего рода социальной конструкции). Но, оставляя в стороне эту скользкую тему (согласимся ли мы с тем, что существуют некие внесоциальные основания для этнической консолидации, или не будем соглашаться), признаем очевидное. Заставая некое уже готовое ядро этничности, государство его может использовать, и как мы видим, пытается в ряде случаев довольно активно использовать это ядро солидарности, соотносит себя с ним, полагает его в качестве своей основы.
Но обращаю внимание читателя на весьма характерные причины провалов и мучительных затруднений в реализации некоторых из таких постсоветских проектов строительства государства-нации. Неудачи последовали там и тогда, где и когда эти государства ошибочно (но по вполне понятным причинам) вообразили, что они восстанавливают свою государственность. На самом деле любая из бывших советских республик является тем, что она есть, лишь постольку, поскольку в Советском Союзе были проведены определенные границы. А проведены они были в соответствии с проводимой в то время определенного рода национальной политикой. Раз уж Советский Союз определил таким образом, скажем, границы Латвии, затолкав туда громадное количество русских людей, то освободившись от Советского Союза или от России, Латвия не имеет никаких оснований утверждать: "Мы просто восстановили то, что у нас было до 1940-го года". Сегодня Латвия - совершенно другая страна, но с идеологией восстановления старой Латвии (кстати, существовавшей в истории всего лишь 15-20 лет). Историческое обоснование этой идеологии - просто полная чепуха, но политические последствия ее применения в ходе государственного строительства достаточно серьезны, и мы можем вполне четко квалифицировать их как апартеид. И понятно, что эти последствия неизбежно придется преодолевать, понятно, что устойчиво существовать такое государство не сможет, что единственная возможность для него - включиться в новые имперские структуры, в данном случае - Европейского Союза.
В этом смысле большинство постсоветских стран сталкивается с одними и теми же проблемами, хотя конкретика всякий раз разная. Что касается Российской Федерации, то она представляет собой очень странное образование, потому что если такие страны, как Эстония или та же Латвия, прежде существовали в истории хотя бы 15 лет, то такой страны, как Российская Федерация, никогда в истории не существовало. Она вообще ничему не соответствует, ее границы искусственны: с одной стороны, есть искусственно изъятые части, с другой - искусственно присоединенные. Причем эта "искусственность" проявляется лишь в той мере, в которой продвигается процесс формирования государства-нации. В империи ничего искусственного нет, в ней разграничение "провинций" имеет характер административный, определяемый соображениями удобства управления. А при распаде империи это оборачивается тем, что, как мы видим сейчас, административные границы объявляются по факту государственными. И если так, то выстроить государство-нацию исключительно на этнических основах не получится.
Безусловно, это отдельная сложная проблема, и я не чувствую себя в ней специалистом. Также очевидно, что простое численное превосходство, пусть даже подавляющее (количественная несопоставимость русских и всех остальных народов России), само по себе ничего не решает. Тем более, что на конкретных местах этого численного превосходства не наблюдается вовсе, а само определение того, кто является этнически русским, а кто - этнически не русским, является отдельной серьезной проблемой. Но даже если всё это убрать в сторону, понятно, что сконструировать Россию как моноэтническое государство, оставаясь в нынешних границах, невозможно.
Мы знаем, что существует проект разложения нынешнего российского государства и выделения из него сугубо русских областей, но, скажем прямо, ему пока не хватает реалистичности. Причем даже не в силу каких-то особых соображений, а просто потому, что трудно в России найти такие места, где этническое самосознание русских является достаточно сильным для производства соответствующего ему государства. Один идеолог может переговорить другого идеолога, но когда речь идет о реальной политической жизни, мы видим, что перспектив построения российского государства-нации на этнической основе в реальности обнаружить невозможно.
В то же время теоретически, по-видимому, можно придумать альтернативный проект построения государства-нации на иной, не этнической основе. Взглянем, например, на ту же Америку, на которую мы всё время облизываемся и которая, не являясь моноэтническим государством, тем не менее обеспечила завидную базовую солидарность, позволяющую американцам уверенно утверждать, что все они - единый американский народ. Здесь даже нет необходимости добиваться всеобщего единения. Важно лишь единство тех, чьи голоса и мобилизационная готовность, внятно выраженная лояльность и способность транслировать определенные образцы поведения являются ключевыми для продолжения существования страны в том виде, в котором она существует.
Рассмотрим гипотетические условия реализации подобного проекта в России. Здесь возникают две взаимосвязанные задачи. С одной стороны, до настоящего времени нет никаких признаков понимания этой проблемы со стороны, так сказать, ключевых заказчиков такого рода проекта, понимания того, что без его реализации у них нет никакой политической перспективы, что без этого им просто хана. Вся идеологическая жизнь страны последние лет 10-15 строится по принципу реакции ad hoc: что может сработать сразу, буквально завтра, и что можно удачно продавить через разные каналы в срок от нескольких дней до нескольких лет. Все стратегически ориентированные проекты не рассматриваются в принципе. А с другой стороны, существует сильнейший раздрай в интеллектуальной среде, отсутствие какого бы то ни было консенсуса среди тех, кто мог бы осуществлять педагогическую работу воспитания нации - скажем, не на этнических, а на историко-культурных основаниях. Этот разлад настолько сильный, что представить реалистическую перспективу подобного проекта я просто не могу. По моему мнению, наши интеллектуалы просто не смогут договориться между собой.
Иными словами, перспектива построения гражданской нации в России на сегодняшний день актуальна как проблема, но не актуальна как задача, как проект. Все тренды только тревожные, ни одного благоприятного не вижу. Все только усугубляет проблемную ситуацию.
Конечно, в такой ситуации можно попытаться спуститься с политического уровня на уровень социальный, посмотреть состояние дел с точки зрения развития социальных сетей доверия в стране. Но данная проблема очень сложна теоретически. Что касается сетей, я хотя и люблю это слово, но не умею пока работать с этим понятием, не знаю, какие на основе анализа их развития следует делать выводы. Что касается доверия, то оно представляет собой эмпирический феномен, который достаточно очевиден для всех. Не нужно быть ученым, чтобы обнаружить падение доверия и на межличностном уровне, и на уровне институциональном. Во всех смыслах и во всех случаях доверие размывается.
Доверие - это некоторого рода стратегия, стратегическая установка. Здесь неуместна аналогия с ситуацией, когда человек, которому вы доверяете, совершил некий поступок, которого вы от него не ожидали, и вы ему отказываете в дальнейшем доверии. Стратегию доверия лучше характеризует другая реакция на эту ситуацию: оступился человек, с кем не бывает. Вот что такое стратегия доверия. Но как раз в этом смысле она используются в межличностных отношениях всё меньше и меньше. То же - и в отношении к разного рода институтам. Когда в опросах спрашивают, доверяете ли вы такому-то, интерпретировать результат очень сложно. Мы доверяем президенту - что это означает? Ведь люди точно не знают, что означает слово "доверие". Они не знают, идет ли речь о ресурсе сохранения определенной линии поведения даже при совершении тем, кому оказывается доверие, неожидаемых и не одобряемых поступков. Неясно также, в течение какого времени и до какой степени они готовы сохранять доверие в этом случае.
Другой пример - рост количества вкладов в банках - говорит об определенном росте доверия финансовым институтам, подорванного в начале 1990-х годов, а затем дефолтом 1998 года. И если мы видим рост не только количества вкладов, но и депозитов, широкое использование определенными группами страховых и пенсионных вкладов, то это, безусловно, симптомы роста доверия. Подчеркну, что вижу здесь прежде всего симптомы появляющегося нового стратегического поведения, причем как со стороны населения, так и со стороны банковской сферы. Рост объемов кредитования означает, что речь идет уже не только о доверии людей банковской системе, но и о доверии банковской системы населению, которая рассматривает его как сравнительно надежного партнера и готова доверять ему свои деньги, рассчитывая на то, что не будет обмануто и рано или поздно вернет их с процентами.
Для социолога, который мыслит чуть более широко и чуть более абстрактно, вопрос заключается не в том, есть ли эти очаги доверия. Они есть, и игнорировать их наличие было бы по меньшей мере безответственно. Вопрос состоит в том, насколько серьезно их значение в более широком социальном контексте. Если мы наблюдаем бум потребительского кредитования в нескольких крупных городах, то давайте посмотрим, насколько серьезный отклик это имеет в стране в целом, а с другой стороны, насколько свое доверие к банковской системе люди готовы перенести на межличностные отношения или на отношение к конкретным чиновникам. То есть проблема доверия - многосоставный феномен, и если говорить об этом "в целом", то приходится ограничиться констатацией эмпирически существующего и зафиксированного многими исследователями увеличения межличностного недоверия между людьми, увеличения атомизации общества. Рост отмечен даже по сравнению с 1990-ми годами. Я не могу сейчас сослаться на данные конкретных исследований, но они публикуются постоянно, и игнорировать их нельзя. Они надежно фиксируют то, что в социологии традиционно называют аномией.
Необходимость новой парадигмы социальной теории
Для того, чтобы эффективно изучать проблемы формирования государства-нации в России, мне кажется, нам нужна выработка каких-то новых понятий, нужно более широко использовать ресурсы социальной теории. Я бы даже выразился по-другому. Существует некий феномен повышенной реактивности и краткосрочности ожиданий и интенций людей. Поясню, что я имею в виду. Если вы работаете с классическими понятиями социальной теории, вы говорите о классах, социальных группах, о ценностях, интересах. Вы находите некий набор объективных характеристик у человека или у группы людей, которых вы выделяете на основе этих параметров, и вы можете с большей или меньшей надежностью судить об их ожиданиях и планах. При этом вы исходите из того, что группа, вычленяемая по тем же параметрам, и далее будет проявлять однородное и предсказуемое поведение. И даже если оно будет меняться, то не резко и однородным образом у всей группы. Иными словами, вы предполагаете существование у нее неких устойчивых характеристик, которые лежат в основе индивидуального поведения ее представителей.
Так вот, каждое из этих положений мне кажется в настоящее время ошибочным. Мне кажется ошибочным вычленение таких групп на основе классических параметров, будь то возраст, доход, так называемое социальное положение и т.п. Мне кажется ошибочным предположение, что если мы все это вычленили, то мы тем самым зафиксировали основу для однородного поведения или, иначе говоря, что любой из этих параметров, или все они вместе, или часть из них являются постоянным субстратом однородного поведения. Наконец, мне кажется ошибочным предположение, что это поведение будет меняться в соответствии с некими устойчивыми трендами. Скорее, на мой взгляд, оно будет иметь характер, который я называю реактивным.
Какова же альтернатива классическому подходу? Я думаю, надо отказаться как от идеи о том, что для нас самое главное - понять мотивы и ценности отдельного человека, которого мы наблюдаем, так и от того, чтобы находить какие-то устойчивые, скажем, группы или классы, состоящие из людей. Субстрат происходящих процессов не так важен, как совершающиеся события. У меня такое ощущение, что, как правило, для нас важнее бывает зафиксировать некий поток или некую сеть однородных событий, у которых могут быть, если угодно, совершенно разные авторы; важно лишь, что при этом события будут одни и те же.
Чтобы это не звучало слишком абстрактно (не хочу морочить читателям голову, а строго объяснять все на теоретическом уровне было бы слишком долго), я могу привести конкретный пример. Представьте себе, что существует известная всем коррупционная ситуация, например, взяточник на дороге. Нам может быть интересно то, какие мотивы заставляют, условно говоря, инспектора Икс брать взятки, и какие мотивы заставляют водителя Игрек эти взятки давать. На самом деле мы все прекрасно знаем, что если арестовать их обоих за то, что один дает, а другой берет, то на этом месте завтра появятся другие, которые будут делать то же самое. А вместе с тем, нет такой социальной группы - "водители". Она не вычленяется ни одним из способов, которые известны социологии. Причем "водитель" - это даже не человек, который находится за рулем автомобиля. Посадите его за руль автомобиля, отправьте, условно говоря, во Францию, и он будет вести себя по-другому.
Для нас важно, что существуют некие социальные ситуации с устойчивыми форматами событий. Поэтому на вопрос о том, что мы должны изучать, я мог бы ответить: прежде всего, мы должны смотреть на некоторые устойчивые взаимосвязи событий, а уже во вторую очередь на то, какими мотивами или какими ценностями руководствуются их участники.
Добавлю к этому, казалось бы, противоречащее ранее сказанному. Я только что предлагал деперсонализировать социологию. Но в то же время необходимо вернуть в социологию человека. Мне представляется, что не единственной и, может быть, даже не главной, но очень существенной характеристикой поведения человека в наше время является эстетический характер его поведения. Эстетический не в смысле художественный и не в смысле "любви к искусству", а в том смысле, который был известен еще до Канта, т.е. в смысле чувственного характера поведения. Грубо говоря, все концепции человека или базовая антропология социологической теории человека, с которой мы имеем дело, предполагают так или иначе, что человек есть существо, во-первых, разумное, а во-вторых (говорю, как заведующий кафедрой практической философии), практически разумное. Иными словами, как разумное существо человек способен взвесить некоторые резоны, и даже если у него есть какие-то страсти, какие-то предпочтения и интересы, он включит свой разум и примет, руководствуясь им, решение. Но мне-то, честно говоря, кажется, что человек в первую очередь существо чувственное.
Он откликается на некие импульсы, на некие соблазны, на нечто такое, что его привлекает. И при этом он не подвергает свои мотивы рефлексии, он - существо малорефлексивное, малорассуждающее, причем не в силу каких-то страстей, или аффектов, или классовых интересов, а в силу чего-то иного, присущего ему от природы. Попытайтесь поговорить с каким-нибудь человеком, попытайтесь кого-то хоть в чем-то убедить. Причем лучше - не из своего круга, где в конечном счете ваш оппонент может согласиться с вами не потому, что вы его убедили, а из вежливости. Попробуйте переубедить, к примеру, водителя машины, который вас подвозит. Вот он хочет высказать вам какую-то мысль (он думает, что это мысль), и вы начинаете с ним спорить, и вы пытаетесь ему, как интеллигентный человек ,привести какие-то резоны. И вы вскоре непременно обнаружите, что существует некая абсолютная преграда между вами и тем предпочтением определенного характера поведения или определенной реакции на происходящее, которое он для себя выбрал. В конечном счете все упрется в "нравится - не нравится". И все ваши аргументы пройдут мимо него, не затрагивая, как косой дождь. Вот это и есть та основа, на которой формируется и оказывается единственно возможной политика ad hoc, т.е. политика, которая ориентирована в первую очередь на получение эффекта через сиюминутные средства мобилизации, через сиюминутные - будем называть их так - "убеждения". Политика, лишенная стратегического измерения.
И поэтому тот гражданин, который всё время мерещится нам на заднем плане наших рассуждений, некий разумный гражданин, который в идеальном обществе получает полную, добротно аргументированную информацию о программах партий, об их стратегии, размышляет, взвешивает и, наконец, совершает свой рациональный выбор, - это всего лишь наша абстракция. Ничего этого сегодня нет и, думаю, никогда больше не будет. У нас этого точно не будет никогда, имея в виду то обозримое время, в котором нам предстоит жить. Вместо этого будет политика как поле чувственной эстетической мобилизации сиюминутно важных поведенческих реакций и персональных решений граждан.
Вопрос в том, кто в таком случае будет формировать повестку дня политики. Будет ли это чисто стихийным процессом или процессом, в котором число значимых субъектов будет крайне ограниченно? Думаю, более вероятно второе, Люди, которых опрашивают социологи, думают, что они заглядывают в черный ящик. Но, с моей точки зрения, они просто являются трансляторами тех сигналов, которые поступают к ним из него. Я в этом смысле агностик, я не знаю, что творится внутри черного ящика, но полагаю, что знаю, как он ведет себя во внешней среде. Во внешней среде он ведет себя в значительной степени по модели бессмертного Истона. То есть из него извергаются некие решения в обмен на поддержку, которую он получает из внешней среды. Эта поддержка обеспечивается как раз за счет этих решений. А является ли такой черный ящик политической системой или чем-то другим - это уже опять-таки из другой области понятий.
Ясно, что с этой точки зрения вряд ли уместно говорить о реальной способности общества участвовать в политике. Да этого вообще нигде нет. Потому что современная модель политики была придумана, между прочим, тогда, когда не было никакой демократии. Был либерализм, но не было демократии. Она была придумана для взаимодействия с высшими властями богатого образованного меньшинства. Потом в силу разных причин и специфического развития политики, в особенности в ХХ веке, права, которые раньше были только у образованного имущего меньшинства, постепенно стали правами всего народа или всех тех, кто имеет права гражданства на данной территории. Естественно, это привело сначала к деградации политики, а затем в значительной степени к выхолащиванию того, что называется демократическим процессом.
Больше всего это беспокоит, надо заметить, идеологов, потому что в этой ситуации идеологи оказываются без работы, они никому не нужны - ведь средства мобилизации оказываются уже не идеологическими, а совсем другими, так сказать, технологическими. Востребованы лишь эффективные технологии воздействия на массы. Поэтому идеологи бесятся, а их аудитория сокращается до размеров того специфического общественного слоя, представители которого ментально близки имущему образованному меньшинству, но по социальному положению являются неимущими, по реальному образованию малообразованными, а по своему отношению к власти навсегда лишенными каких бы то ни было возможностей влиять на происходящие в ней процессы.
Притупление стратегической чувствительности нашей политической системы рано или поздно нам всем аукнется
Значит ли это, что вообще там, в сфере принятия политических решений, всё наглухо закрыто, и "они" творят, что хотят, а здесь только вопли и больше ничего? Я думаю, что это не так, но эта сторона дела является наиболее сложной. Она связана с тем, что если бы вся жизнь во всех ее отношениях была чисто политической конструкцией, то так бы оно и было. Но, например, если где-то что-то рушится, падает, взрывается или затопляется, то это происходит независимо от того, хочет того политик или нет. Есть огромное количество вещей, которые прорываются внутрь этого казалось бы отрегулированного процесса, причем масштаб их воздействия бывает настолько велик, что нет никаких способов их замаскировать или с ними управиться. И любая ad hoc реактивность здесь не помогает, потому что происхождение такого рода неконтролируемых и нерегулируемых "случайностей" имеет стратегический характер.
Безусловно, надо признать, что черный ящик, эта наша псевдополитическая система, нашла некий весьма эффективный алгоритм превращения большинства этих неприятностей в усиление собственной власти (условно говоря, механизм "МЧС"). Большинства, но не всех. Есть некие события, я их называю абсолютными событиями, и их воздействие на политику чрезвычайно серьезно. Абсолютное событие - это в первую очередь то событие, которое невозможно произвольным образом переинтерпретировать. Как правило, оно связано с жизнью или смертью кого-либо, с прекращением существования человека.
В этом смысле любое изменение в политике может быть частью политической рутины, и тогда это не абсолютное событие: политическая система остаётся той же, только частично меняется персональный состав. Но изменение может, не дай бог, означать существенные пертурбации, и тогда это будет абсолютное событие, существенно меняющее ход политического процесса. Кстати, если говорить о предстоящих в марте следующего года президентских выборах, то я считаю, что внутри нашей политической системы нет ровным счетом ничего такого, что не позволило бы ей на достаточно серьезный период перевести связанные с этим перемены в разряд рутинных событий. Но поскольку тем самым еще сильнее притуплена чувствительность системы к внешним сигналам, то в перспективе она может окончательно потерять чувствительность к надвигающимся угрозам. Это тот же самый случай, как если пить обезболивающее лекарство, когда у вас что-то болит: будете чувствовать себя превосходно, а потом окажется, что вы проспали серьезную болезнь. Это притупление стратегической чувствительности нашей политической системы будет лишь прогрессировать, а вместе с тем по-прежнему будет полное отсутствие стратегической работы по тем направлениям, которые мы обозначили, и прежде всего - полное отсутствие даже намека на педагогическую работу по созданию солидарного сообщества. А это, конечно, рано или поздно нам всем аукнется.
Сегодня же следует признать эффективность и устойчивость сформировавшейся политической конструкции. Наш "черный ящик" успешно обеспечивает свою властную монополию, во многом - за счет грамотной политики рекрутирования и учета интересов всех ключевых сил. Например, гаишник, который берет взятки на дороге, вполне заинтересован в стабильности сложившегося режима. Зачем ему какой-то другой? То же самое, например, со школьными учителями. Тем более сейчас, когда в образование пришли реальные деньги, и школьные учителя, директора точно так же сидят на денежных потоках. И никто с этим не будет бороться, потому что интересы корпорации никто под вопрос ставить не будет. Другое дело, что она себя не ощущает как корпорация; это не корпорация для себя, а корпорация в себе. И никакой солидарности от них, если их начнут сажать за взятки, ждать не приходится. Но и режим не заинтересован в том, чтобы радикально менять ситуацию. Его "говорящие головы" могут декларировать что угодно. Но у социальных групп, составляющих его основу, должна быть возможность кормления. Те же, которым это не нравится, кто чувствует, что их интересы попираются, составляют не просто меньшинство, а дисперсное меньшинство. Они не составляют компактной группы, мобилизация которой могла бы дать какие-то результаты.
По сути дела все те тенденции, которые мы наблюдали в нашем обществе за последние полтора-два десятка лет - атомизация, разрыв социальных связей, разложение устойчивых прежде социальных общностей - всё это нашло достаточно последовательное логичное воплощение в той системе власти, которая у нас сформировалась. Только я не считаю, что она была выстроена неким стратегом с самого начала (впрочем, откуда мы можем это знать, быть может, где-то там и сидел какой-то гениальный мыслительный спрут). Главное, что она сформировалась такой, какая она есть, и ее социально-политическая эффективность на коротких отрезках убедительно подтверждена; не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы видеть, насколько здорово они справляются со своими проблемами. В этом смысле персоналистская конструкция, о которой убедительно написал Михаил Краснов, как бы венчает всю эту систему, органична ей.
Вместе с тем, вряд ли стоит преувеличивать лимит устойчивости данной системы. Вполне очевидны факторы, стратегически дестабилизирующие ее. Во-первых, это полная неясность в отношении антропологического ресурса. Мы не знаем, сколько еще возможно будет эффективно управлять людьми, увлекая и соблазняя их приятным, отвлекающим, занимательным. Возможен новый частичный возврат к рациональной или идеологической мотивации, в силу, например, ограниченности эстетического ресурса. Сохраняются некие рудименты идеологических конструктов, когда-то обнаруживших большую мобилизационную пригодность - в том числе нацистские идеи этнического или расового превосходства. Никто из политиков-практиков не решится сегодня взять на вооружение эти идеи во всей их цельности, но что, если использовать какой-то их кусочек? Он же когда-то работал, а вдруг и сейчас сработает? Например, натравливать тех, кто относится к одному этносу, на тех, кто относится к другому. Опасность же заключается в том, что это - не съемный блок, засунул - вынул. Его использование приведет к необратимым переменам. Раз, и уже вместо эстетического человека, который способен прекрасно сочетать ненависть к другим этносам с пользованием плодов их цивилизаций (например на отдыхе), мы получаем идеологического человека, который не тем плох, что зашорен идеологически, а тем, что его вообще невозможно подвигнуть ни на какие тактически выгодные уступки никакими дополнительными соблазнами.
С другой стороны, велика вероятность исчерпания антропологического ресурса в смысле мобилизационной мотивации. Вы рассчитываете на человеческую энергетику, но люди могут сказать: мы устали, мы больше ничего не хотим, мы даже ваш телевизор проклятый смотреть не будем, мы перегружены вашими технологиями управления до отвращения. Это как если человеку его любимое сладкое давать килограммами. Политические последствия этого очевидны. Вы рассчитываете на свою способность мобилизовать определенное количество людей на совершенно бессмысленную, но политически значимую для вас акцию. Но в самых неожиданных ситуациях вдруг могут отказать надежно проверенные способы мобилизации. Как у Пушкина в "Годунове": всё вроде бы сработано по технологии и абсолютно грамотно, а народ безмолвствует.
Наконец, есть такой немаловажный аспект проблемы, как понижение качества решений. В принципе всем был бы хорош отказ от демократии, если бы работала модель квалифицированной рациональной бюрократии. Но способы ее рекрутирования при нынешнем раскладе, скажем так, сильно отличаются от способов рекрутирования, мобилизации и мотивирования, формирующих рациональную бюрократию. Абсолютная невозможность что-либо изменить в персональном или компетентностном составе чиновничества чувствуется сейчас довольно остро, в ряде случаев принимаются решения, которые, мягко говоря, могли быть и лучше. Например, есть 13 способов доставки груза, из них один наилучший, четыре хороших, пять плохих, а оставшиеся совершенно неудачны. Так у нас сегодня будут выбраны самые плохие. Это не значит, что груз вообще не будет доставлен, но он будет доставлен не наилучшим способом. И поскольку "Титаник" у нас здоровенный, то дело может продолжаться довольно долго, и весь ужас состоит в том, что лишь в ходе катастрофы выяснится, что капитана следовало бы отстранить еще до отправления из порта. Но судно к тому времени уже будет идти ко дну.
Если продолжать эту аналогию, то айсберг может возникнуть на нашем пути откуда угодно, хоть из космоса. Важно лишь то, что у нас в обозримом будущем резко повышается предрасположенность к новой национальной катастрофе. Вот, к примеру, нынешняя организация системы образования. Любой нормальный социолог, который когда-то интересовался проблемами образования, глядя на то, сколько у нас заведений, дающих высшее образование, понимает, что мина уже, собственно, заложена, и не только заложена, а и шнур уже горит довольно давно. Такое количество высших учебных заведений в стране, да еще и с привилегиями, которые даются студенчеству, - это то, чего нельзя было допускать ни в коем случае. Какими бы политическими резонами это ни было вызвано.
Как человек, знающий немножко о высшем образовании, я могу сказать, что здесь - одна из предпосылок возможной катастрофы. Подчеркну - не плохое качество образования, а количественный избыток высших учебных заведений со всеми их возможностями, привилегиями, с людьми, которых они выпускают с дипломами о якобы высшем образовании. И с возможностью совершенно легально уходить от армейской службы для огромного количества людей, которые кричат, что они интеллектуальный потенциал нации. При том, что учатся в каком-нибудь заборостроительном институте и потом выходят оттуда с безумными претензиями на то, что они люди с высшим образованием, с претензиями на определенного рода работу и зарплату.
Взрывоопасность этой ситуации можно проследить по целому ряду направлений. Во-первых, мы уже наблюдаем клинч между военными и образованцами во власти - при том, что обе стороны принадлежат к одному и тому же черному ящику. Мы не знаем, как в образовании получилась такая замечательная штука, и мы не знаем ничего о том, как устроен силовой блок. Мы ни там, ни там ничего не знаем о механизмах принятия и реализации политических решений. Поэтому мы можем говорить только о внешней стороне происходящего, когда "говорящая голова" с одной стороны кричит о невозможности поставить в строй весь интеллектуальный потенциал нации, а "говорящая голова" с другой стороны ответствует, что не хватает народа, чтобы расставить хотя бы по периметру границы. Да к тому же намекает, что хорошо бы в суперсовременный танк посадить выпускника юридического факультета, потому что других у нас нет: кто же лучше справится с танком, чем юрист, экономист, в крайнем случае менеджер? К тому же никого другого по всей стране уже практически и не выпускают.
Я утрирую, но смысл сказанного состоит в следующем. Понятно, что налицо именно внутренний конфликт, который просто закамуфлирован всякими странными словами. Понятно, что система высшего образования - это система производства претензий, т.е. производства людей с определенного рода притязаниями. Понятно, что и система присуждения ученых степеней есть система производства людей с притязаниями. Громадное количество кандидатов и докторов наук бродит по стране и спрашивает: где то, ради чего, собственно, мы всё это делали? Зачем мы столько лет платили взятки, еще раз платили взятки, потом через некоторое время опять платили и находили людей для того, чтобы они нам написали курсовые, дипломы, кандидатские диссертации, докторские диссертации, членам совета платили - зачем мы всё это делали? Зачем? И если с кандидатами и докторами, несмотря на их чудовищный избыток, всё как-то более или менее понятно, то что происходит на просторах страны с людьми, имеющими всего лишь диплом о высшем образовании, мне страшно подумать.
Сегодняшние меры по сокращению числа вузов, госфинансирования, сокращению времени, затрачиваемого на образование, Болонская система - всё это вещи правильные. Плохо то, что кое-чего нельзя было вообще допускать, а кое-что надо было сделать 10 лет назад. И что теперь делать с теми, кого десять лет производили в таких диких количествах, никто не знает. Они теперь навсегда, на всю жизнь останутся людьми с высшим образованием, вкусившими некий соблазн и потом неизвестно во что уткнувшимися.
Все это - яркий пример работы реактивной политики. Так
складывается определенного рода система, когда нет ни единой инстанции, достаточно
компетентной, чтобы оценить стратегические социальные последствия принимаемых
решений.
________________________________________________
Владимир ГЕЛЬМАН,
профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге
ИТОГИ ПОСТСОВЕТСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
ДИЛЕММЫ ПЕРИОДА СТАБИЛИЗАЦИИ
УНИВЕРСАЛЬНОЕ И ОСОБЕННОЕ В ПРИРОДЕ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ
РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО, ПОЛЯРИЗАЦИЯ И НАЦИОНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ГОСУДАРСТВО VERSUS ОБЩЕСТВО: ОТ "ПРОТЕСТА" К "УХОДУ"?
РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЯ: ОТ ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ - К ХРОНИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ?
ДИАГНОСТИКА ИЛИ РЕЦЕПТЫ?
Попытка оценить нынешнее состояние российской государственности и политического режима, риски и неопределенности их дальнейшего развития неизбежно выводит на целый ряд различного рода проблем. Отчасти они обусловлены бурными процессами 1990-х годов, которые протекали в условиях "дилеммы одновременности" (Клаус Оффе) - не встречавшейся доселе в истории "тройной трансформации", т.е. одновременной смены и политического строя, и экономического устройства, и границ государства. Хорошо ли, плохо ли, сегодня России эти проблемы удалось если не решить, то, по крайней мере, уменьшить порождаемую ими социальную и политическую напряженность. Однако сегодняшние решения носят, скорее, характер косметического ремонта, в то время как российское государство требует ремонта как минимум капитального. В краткосрочной перспективе косметический ремонт удался, но решение многих проблем системного характера отодвигается "на потом". Поэтому пресловутая стабилизация государственного строя и политического режима в России, приписываемая В.Путину, - мнимая: было найдено краткосрочное решение, но в рамках нынешнего режима не существует решения долгосрочного.
Долгосрочные решения требуют длинного горизонта времени. Горизонт времени, которым оперирует сегодня российский политический класс, чрезвычайно короток. Поэтому-то и откладываются многие решения. Привычка оперировать коротким временным горизонтом сформировалась в 1990-е годы в ситуации крайне высокой неопределенности, перманентных кризисов и постоянных конфликтов. Все это в целом не позволяло строить расчеты далее, чем на несколько месяцев. Сегодня объективных причин, препятствующих переходу к долгосрочному планированию, стало гораздо меньше. Экономика в несоизмеримо лучшем состоянии, чем в прошлом десятилетии, цены на нефть высокие, потенциал острых конфликтов, которые угрожали бы территориальной целостности страны, значительно снизился. С социально-экономической точки зрения, в России нет ничего, что оправдывало бы краткосрочный подход политических элит к проблемам развития страны. Но сохраняются высокие политические риски, поскольку не решен ряд ключевых вопросов институционализации российского политического устройства.
Здесь мы выходим на проблемы несколько иного рода, имеющие непосредственное отношение к политической теории. Речь идет о том, каковы условия и механизмы стабильности недемократических режимов.
Дилеммы периода стабилизации
Россия - не единственная недемократическая страна, которая сталкивается с угрозой глубокой дестабилизации режима (особенно в ситуации смены лидера). Большинство политических режимов, установившихся в постсоветских странах, решали эту проблему путем персонализма. Одним удалось найти более успешное решение (Азербайджан при Алиеве-отце и Алиеве-сыне), другие были менее удачливы (Кыргызстан), но все персоналистские режимы в мире чрезвычайно уязвимы в том плане, что срок их существования невелик (по данным Барбары Геддес, в среднем 15-18 лет) и, как правило, не превышает срок жизни самой властной персоны.
Такие режимы в сравнительной перспективе оказываются более опасными для элит, чем другие типы недемократических режимов, поскольку они наиболее репрессивны. Для того, чтобы держать элиты в повиновении, персоналистские лидеры, как правило (хотя и не всегда), вынуждены устраивать регулярные чистки, жертвами которых оказываются прежде всего сами элиты. Скажем, "ленинградское дело" времен Сталина - наглядная тому иллюстрация. Сходные явления мы могли наблюдать на примерах режимов Туркмен-баши и Лукашенко, когда жертвами становились персонажи из близкого окружения лидера. Кстати, поведение российского режима в деле ЮКОСа - пример из того же ряда.
Но существуют и иные, более устойчивые разновидности недемократических режимов. В постсоветских странах речь не идет о режимах военных: этот вариант здесь нереализуем в силу относительно низкой политической роли и статуса вооруженных сил. Но есть другой тип режимов, обеспечивающих минимизацию рисков, - режимы с доминирующей партией. Более того, у нашей страны есть соответствующий опыт: в послесталинский период мы, безусловно, имели не персоналистский режим, а режим господствующей партии, которая определяла политическую повестку дня в гораздо большей степени, чем лидеры страны, будь то Хрущев или Брежнев. Существует и известный мексиканский опыт, про который мне уже доводилось писать (см. Pro et Contra, 2006, т.10, N4).
В Мексике 1930-х годов режим доминирующей партии оказался сознательным выбором элиты в весьма специфических обстоятельствах высоких политических рисков: стране надо было преодолевать последствия тяжелого, длившегося два десятилетия кризиса, включавшего революцию, восстания, ослабление центрального правительства на фоне господства местных боссов, вовлеченность армии в принятие политических решений. По сравнению с мексиканскими постреволюционными кризисами, наши кризисы 1990-х выглядят весьма умеренными и непродолжительными. В том выборе, который сделала мексиканская элита, колоссальную роль сыграл Лазаро Карденас, который, собственно, и был генеральным секретарем правящей партии, а потом сделал ее правящей по-настоящему, т.е. не просто "партией власти", а устойчиво доминирующей партией на протяжении многих десятилетий (она находилась у власти с 1929 по 2000 год). Этот опыт оказался весьма успешным и обеспечил Мексике эффективное развитие практически в течение всего данного периода.
Но механический перенос такого рода опыта на российскую почву - дело крайне затруднительное. Практика российского партийного строительства показывает, сколь непросто реализовать здесь подобную модель. Тем не менее, сегодня выбор происходит только между двумя недемократическими моделями: - персоналистской (при этом не важно, будет ли нынешний президент фактически находиться у руля власти после истечения нынешнего срока или нет), и моделью с доминирующей партией. Вариант же мирной трансформации нынешнего режима в подобие режима конкурентной демократии на сегодняшний день в повестке дня российского политического класса не стоит.
Понятно, что строительство режима доминирующей партии - не одномоментный процесс. В той же Мексике его институционализация заняла три электоральных цикла, 17 лет, и завершилась только к 1946 году. На этом пути были свои внутренние расколы, свои проблемы, свои сложности. Формирование доминирующей партии в России - также не вопрос одного дня. Мы видели, как у "Единой России" - основного претендента на эту роль - появился спарринг-партнер в лице "Справедливой России". Более того, президент сказал, что было бы правильно, если бы обе партии выдвинули единого кандидата на президентских выборах. Не исключаю, что так оно и случится. Конечно, многое будет зависеть от исхода парламентских выборов, а также от того, будет ли принято принципиальное решение инвестировать усилия и ресурсы государства в укрепление "партии власти".
Так или иначе, до того, как пройдут ближайшие парламентские и президентские выборы, о выборе того или иного пути эволюции российского политического режима говорить преждевременно. При этом прохождение самой главной, принципиальной развилки обусловлено тем, произойдет ли смена первого лица на посту реального (а не только формального) главы государства. Если она не произойдет, то тем самым будет сделан важный шаг в сторону персоналистского варианта, и нынешний президент будет де-юре или де-факто возглавлять страну и после истечения срока своих полномочий. Шансы на реализацию этого варианта далеко не нулевые.
Оба варианта - и персоналистский, и вариант доминирующей партии - далеко не идеальны. В любом случае кто-то несет очень серьезные издержки. В случае персоналистского варианта эти издержки существенны, но их придется нести немногим представителям элит. В случае варианта доминирующей партии доля людей, которые могут быть отодвинуты от кормушки, будет гораздо больше, но их риски будут не столь велики.
Оба варианта несут свои выгоды и издержки и для страны в целом. Вариант с доминирующей партией может принести (хотя и не гарантирует) режиму долгосрочную стабильность, но при его успехе нынешнему поколению россиян придется забыть о демократии. Вероятность краха персоналистского режима и его последующей демократизации более высока, но едва ли этот крах в российских условиях будет мирным и безболезненным.
Универсальное и особенное в природе российских политических институтов
Сегодня большинство стран мира имеет формально "западный" институциональный "фасад" с президентами, парламентами, конституциями, выборами. Россия ничем не лучше и не хуже этих стран. Но вряд ли стоит приписывать такого рода институты исключительно "западному" опыту, поскольку помимо формального "фасада" они имеют содержательное наполнение, которое может быть различным.
Есть многочисленные исследования, которые показывают, что конституционный дизайн, многие правовые элементы страны Латинской Америки черпали из опыта США. Более того, их конституции писались значительно позже, чем конституция США, и качественно были лучше. Тем не менее в истории латиноамериканских стран далеко не всегда содержание этих институтов соответствовало их демократической форме, а очень часто они отбрасывались вообще, и развитие шло путем военных переворотов. Впрочем, и советская конституция тоже была демократической по форме, предполагала парламентскую республику, однако содержание, наполнявшее эту форму, было принципиально иным, недемократическим.
Но чтобы яснее понять содержание, начинать следует все-таки с формы. Строго говоря, современная российская конституция с этой точки зрения никакой конституцией, конечно, не является. Это некий акт политической воли, который был продавлен силовым путем после роспуска парламента в 1993 году, и никакого согласия политических акторов с основными положениями конституции в данном случае не предусматривалось. Да, конституция действует, её никто не может обойти напрямую. Но вовсе не потому, что она хорошая. И даже не потому, что с ней все согласны. А просто потому, что издержки ее изменения очень велики, изменить ее или принять новую конституцию очень сложно. Но в то же время мы видим, что эта конституция не выполняет две важнейшие функции: во-первых, функцию согласования интересов и координации действий, а во-вторых, функцию ограничителя действий политиков.
Например, в 1995 году, рассматривая дело по указу Ельцина о вводе войск в Чечню, конституционный суд счел, что Ельцин вообще-то ничего не нарушил, потому что конституция предписывает ему определять основные направления внутренней и внешней политики страны, и он вот так их и определил. А за исполнение его указов в Чечне ответственность несут конкретные должностные лица, Ельцин тут чист. Это - очень характерный пример, свидетельствующий о том, что функция ограничителя в конституцию не заложена.
К тому же даже самые либеральные ее положения легко могут быть изменены или их содержание может быть извращено до противоположного. В конституции, скажем, есть огромная глава о правах и свободах человека и гражданина, но в то же время одна из ее статей гласит, что вообще-то эти права и свободы граждан могут быть отменены федеральным законом, если того потребуют общественные интересы. Понятно, что, опираясь на такие положения, смысл всех норм о правах и свободах граждан легко изменить с точностью до наоборот. По сути, единственное существенное ограничивающее положение в российской конституции - норма о невозможности одному человеку занимать президентский пост больше двух сроков подряд, хотя уже сегодня в политическую повестку дня поставлен вопрос об ее возможном пересмотре.
Такая дырявая конституция, не являющаяся продуктом согласования общественных интересов, может существовать в течение довольно длительного времени, но при этом она будет иметь отношение к реальной жизни не большее, чем имела конституция советская. В то же время в реальной жизни будут действовать законы Realpolitik, дарвиновские законы борьбы за выживание. И естественно, что в такой борьбе и конституция, и нормы права служат не ограничителем, а орудием борьбы. В этой ситуации, например, принятие поправок в избирательные законы оказывается средством недопущения определенных политических сил к участию в выборах, а тот актор или та группа, которая имеет возможность менять правила избирательного процесса, максимизирует тем самым свои политические шансы и минимизирует возможности оппонентов. Иными словами, функции политических институтов в России сводятся до сугубо инструментальных, как отчасти было и в Советском Союзе: они становятся лишь орудием доминирования одного актора, что принципиально отличает их от конституционных систем, где такие институты служат ограничителями для всех акторов.
Впрочем, украинский случай конституционной реформы 2004 года показывает, что иногда удается изменить постсоветские конституции, и из механизма, который никого не сдерживает, превратить конституцию в важный ограничитель, обойти который не удается даже при изменении расстановки политических сил, как произошло в 2006-2007 годах. Но украинская ситуация - действительно уникальная, к тому же в 2004 году там положительным образом сработал фактор международного посредничества, вынудивший участников вступить в переговоры и изменить прежние правила игры, сделав тем самым свои риски менее существенными. Однако Украина все же не единственный пример на постсоветском пространстве. Можно вспомнить и Молдову, где конституция также была изменена и также стала важным ограничивающим механизмом. Примечательно, что роль внешних посредников ни в одном из этих случаев не была навязывающей: ключевую роль сыграла политическая воля элиты к минимизации рисков в ситуации высокой неопределенности накануне (Молдова) и в ходе (Украина) президентских выборов.
В принципе ничего невозможного в политике нет, и нельзя исключить, что при определенных обстоятельствах нечто подобное может случиться и в России. Однако на сегодняшний день никаких предпосылок для такого поворота не наблюдается
Российское государство, поляризация и национальное строительство
Формирование российской нации - процесс очень длительный. До того момента, пока не сойдет со сцены поколение тех, кто "сделан в СССР" и воспринимает себя, свою страну и ее соседей в "советском" качестве, о формировании российской нации говорить преждевременно. Это не вопрос завтрашнего дня или даже ближайших пяти лет. Но в сегодняшней России сложился определенный набор факторов, который способен заметно осложнить этот процесс.
Среди факторов структурного характера, не зависящих от воли и желания политиков, следует отметить, во-первых, колоссальные размеры нашей страны, значимые не только с точки зрения идентичности ее граждан, но и с учетом банальных универсалий повседневности. У нас, например, огромное число молодых людей, живущих на Дальнем Востоке, никогда не бывали и, возможно, никогда не побывают в Москве и в европейской части России; им гораздо легче съездить в Китай, в Корею или в Японию. Именно с этими странами на Дальнем Востоке налаживается огромное количество торговых, экономических, образовательных связей. Есть и другие регионы, где сказывается действие данного фактора. Даже мне из Санкт-Петербурга дешевле доехать на автобусе до финской столицы, чем на поезде до Москвы, - что уж говорить, например, о жителях Калининградской области.
Так или иначе, в таких регионах формируется своего рода особая идентичность. Где-то она будет, условно говоря, европейская, где-то северо-восточно-азиатская. Важно здесь, что граждане, живущие на этих территориях, в значительной степени осознают себя не только и не столько гражданами одной большой России, сколько жителями данной особой местности, обладающими особыми интересами. Но если моя экономическая состоятельность и моя повседневность зависят от европейских или от китайских соседей, а не от происходящего в Москве, тогда мне не так уж важно, кто у нас глава государства или какую политику ведет центральное правительство на Северном Кавказе. Это не значит, что с переориентацией экономического интереса на евро или юани меняется идентичность. Важно другое: в России катастрофически мало институтов, которые реально и эффективно объединяют страну. Это - проблема ее пространственной интеграции.
Второй важный структурный фактор - ресурсная рента, крайне неравномерно распределенная по территории России. Для политического класса, находящегося в Москве, жизненно важны лишь Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, где добываются основные объемы российских нефти и газа и откуда поступает львиная доля ресурсной ренты. Плюс те участки других территорий, по которым проходят трубопроводы и где размещены нефтеналивные терминалы. А то, что происходит при этом в других регионах страны, по большому счету, значения не имеет.
Фактор ресурсной ренты работает на увеличение межрегионального неравенства, оно быстро растет в 2000-е годы, и по всем прогнозам будет расти и далее. Это неравенство изначально имеет экономический характер, но влечет за собой неравенство социальное, неравенство жизненных шансов. Оно разлагает прежде существовавшие разнообразные лифты вертикальной социальной мобильности, связанные с системой образования, с продвижением кадров в системе номенклатуры и т.п. Сегодня все определяется тем, оказались ли вы или ваши родители случайно рядом с теми местами, где нефть добывают или управляют ее потоками. Упрощая, скажу, что социальные шансы жителей даже не самых депрессивных территорий страны (скажем, Костромы или Вятки-Кирова) становятся все ниже и ниже по сравнению с жителями не только Москвы, но и, например, Сургута.
Безусловно, чем депрессивнее регион, тем выше мобильность людей, тем более интенсивны потоки миграции из них в Москву и Подмосковье. Но эта высокая мобильность все равно затрагивает довольно узкий слой людей. Срабатывает то, что называют "эффектом пылесоса": из депрессивных регионов "высасываются" наиболее энергичные молодые люди. Большинство же жителей этих регионов попросту никуда не в состоянии ехать. Таким образом, успешные регионы России становятся еще более успешными, а депрессивные - еще более депрессивными.
Рост неравенства оказывает влияние и на российский политический режим, уменьшая и без того не слишком высокие шансы на его демократизацию. У нас почему-то принято считать, что становление среднего класса в России непременно сформирует социальную базу демократии. Однако если посмотреть на историю демократических институтов в различных странах мира, то их становление было связано с предоставлением политических прав низшим слоям, прежде всего - рабочему классу. Как показали Дарон Асемоглу и Джеймс Робинсон, в странах Западной Европы, где социальное неравенство было относительно невелико, средний класс в XIX веке поддержал демократизацию, согласившись с перераспределением власти и ресурсов в пользу низших слоев. Но, скажем, в странах Латинской Америки, где разрыв в доходах между средними и низшими слоями был крайне высоким, средний класс выступал против перераспределительной политики и ради сохранения своего статуса поддерживал военные перевороты и служил социальной базой антидемократических режимов. Сходные с латиноамериканскими тенденции наблюдаются и в сегодняшней России: растущий благодаря ресурсной ренте российский средний класс ради сохранения своего нынешнего относительного благополучия готов поддерживать недемократический режим и не склонен изменять статус-кво в пользу низших слоев.
Огромные размеры, ресурсная рента и неравенство в развитии - таковы структурные условия, бросающие вызов процессам национального строительства в России и российскому политическому режиму. К ним добавляется еще одно важное структурное условие - полиэтничность, что усугубляется к тому же наличием этнических республик, доставшихся нам в наследство от СССР. Понятно, что ситуация эта в ближайшем будущем не улучшится, проблемы будут нарастать. Их успешное решение потребует долгосрочного проектирования и стратегического планирования. Но поскольку политикам нужны в первую очередь быстрые электоральные результаты, то даже вполне рациональные действия, вроде бы направленные на решение проблем социальной интеграции страны, приводят зачастую к прямо противоположному результату. Например, ситуация с национальными проектами, которые, в идеальном замысле, безусловно, нужны, представляется по сути скорее предвыборным пиаром. Поэтому их реализация даст, конечно, какие-то ограниченные улучшения, но заявленных целей модернизации страны, выводу ее на качественно иной уровень с помощью национальных проектов, на мой взгляд, достичь не удастся.
Фрагментация социального пространства страны, и без того довольно высокая, будет только усиливаться, а проблема создания гражданской нации, соответственно, лишь усугубляться. Тем более, что сейчас мы видим попытки решения этой проблемы не вполне продуманными и одномоментными действиями, а в последнее время - и чрезвычайно опасные попытки подменить строительство гражданской нации этническим национализмом, превращающим страну в одну большую Кондопогу.
Государство versus общество: от "протеста" к "уходу"?
В условиях, когда, с одной стороны, перспектива формирования гражданской нации сдвигается в отдаленное будущее, а с другой стороны, прежнее имперское пространство уже в значительной степени разрушено, состояние и политического устройства России, и ее государственности я бы описывал в терминах "мозаичности". Мозаичность - это и не интеграция, но и не распад. Это - параллельное существование разных сегментов политики и общества. И тех, что унаследованы от советской системы, и тех, что возникают заново. Это порождает ряд парадоксов, которые могут быть описаны в категориях "вынужденного принятия" (resigned acceptance): даже если значительная часть общества выражает неприятие нынешнего статус-кво, почти никто против него не протестует.
Как реагируют индивиды или целые страны на кризисы? Согласно Альберту Хиршману, есть две основные модели: "протест" (voice) и "уход" (exit). Протест - это активное противодействие кризисным явлениям, попытка с ними бороться. Примером массового протеста в России была мобилизация в ходе падения советского режима в 1989-1991 годах. Уход - это выход в какое-то другое измерение, в другое пространство, эмиграция, в конце концов. Мне кажется, наша страна на многие кризисные явления 1990-х годов, да и сегодня, реагирует, по большей части, уходом. Но единого вектора ухода в России нет. Есть различные его варианты. Это - и локализация, замкнутость на местных делах и местной жизни. Это - бегство от политики, уход из общественной жизни в потребительство, в собственный бизнес, в виртуальные миры… Возможностей ухода нынешнее российское общественное устройство создает очень много, более чем достаточно.
Все это позволяет индивидам не грузить себя заботами о проблеме собственной идентичности, о политике, о нации и прочих общественно значимых вопросах. А поскольку векторы ухода разнонаправленные, то и никакого организованного сопротивления не наблюдается, ситуация поддерживается "по умолчанию". Она устраивает и российский правящий класс, который заинтересован в ее поддержании в течение длительного времени.
Подобным образом существовала и советская система. Она тоже очень многих не устраивала. Но, тем не менее, почти никто активно против нее не протестовал. Условия тогда были другие, но механизм "вынужденного принятия" в общем-то был сходным. Но при этом в Советском Союзе колоссальную роль играли социальные сети, позволяя людям элементарно выживать, добывать продукты, услуги, товары и т.п. и, вместе с тем, выполняя очень важную функцию противостояния произволу со стороны государства. Сейчас произвол со стороны государства угрожает индивидууму в гораздо меньшей мере (если только вы не ходите на "марши несогласных", не занимаетесь бизнесом и не встали на пути у какого-то крупного или мелкого чиновника). Поэтому прежде острая потребность в социальных связях на сегодняшний день стала меньше.
Сейчас эти связи имеют скорее тот характер, который присущ им во многих зарубежных странах; они лишены мобилизующего значения и не могут стать основой для коллективного действия (за исключением самых примитивных моделей мобилизации, подобных тем, что сработали в той же Кондопоге). Поэтому в 1990-е годы, несмотря на колоссальное снижение уровня жизни, мы не наблюдали каких-либо серьезных акций массового протеста. В 2000-е годы стимулы к независимому общественному участию, а тем более к протесту, оказались еще больше подорваны. К тому же улучшилась экономическая ситуация, все начали зарабатывать деньги, протестовать стало некогда.
Кроме того, эффективность коллективных действий сильно зависит от организационных механизмов. Когда есть сильные профсоюзы (как в странах Латинской Америки), которые требуют изменения социально-экономической политики, то речь идет о серьезных организациях, с которыми государство и правительство могут вести переговоры. Но на сегодняшний день в России не существует организаций, способных к эффективной мобилизации протеста. Структуры, унаследованные от советского периода (КПРФ, те же "официальные" профсоюзы), совершенно неэффективны, в то время как политика государства по отношению к независимым общественным объединениям не дает им "поднять голову" в рамках нынешнего политического устройства.
Показателен пример массовых протестов против монетизации льгот. Люди продемонстрировали свое умение организовываться: в акциях протеста приняли участие десятки тысяч людей из разных регионов, выдвигались лидеры, вступающие в конфликт с органами власти, устанавливались межрегиональные связи. Все это осуществлялось помимо традиционных политических партий и общественных организаций, которые подчас просто не понимали, что происходит. Формировался некий новый спонтанный институт коллективного действия. Но государству удалось довольно успешно подавить протест в зародыше, не допустить перерастания выдвигавшихся требований в более серьезные, не дать закрепиться в социальной практике этим новым формам самоорганизации. Грубо говоря, правительство смогло откупиться от льготников, частично удовлетворив их требования.
Протест не вышел за рамки одной конкретной проблемы, волна протестов была сведена на нет. Успех правительства был обусловлен несколькими причинами. С одной стороны, протест носил локальный характер, и попытки межрегиональной координации не смогли перевести проблему с регионального на федеральный уровень принятия решений. С другой стороны, организационные формы протеста возникали "на пустом месте": если бы общественные организации, защищающие права социально ущемленных групп (тех же льготников) существовали изначально, а не возникали на волне возмущения, то масштаб протеста был бы гораздо большим. К тому же, возникнув, они не стали постоянным фактором общественной жизни, более того, когда часть требований была удовлетворена, все эти организации "съежились". Сохранить себя на регулярной основе оказалось невозможным.
Если резюмировать, то протест против монетизации показал, что потенциал для коллективных действий в стране имеется. Тем не менее власти удалось быстро локализовать его и канализировать в нужное и контролируемое русло. Причины недовольства остались, но конкретный повод был устранен. В целом власть справилась с проблемой, отделавшись небольшими уступками. Но социальная политика, дискриминирующая значительную часть населения, по большому счету не изменилась. Изменились лишь конкретные механизмы ее реализации. Поводы к возмущению были устранены, но причины остались. "Червивое мясо в борще" заменили на свежее, и в результате восстание на "Потемкине" не состоялось, более того, даже командование на "Потемкине" сохранилось прежнее.
До тех пор, пока нынешняя структура политических возможностей остается без изменений, российские власти могут не опасаться организованного протеста и при случае кооптировать недовольных, поставить их требования под свой контроль. Но при изменении этой структуры более вероятно возникновение спонтанных волн сетевого протеста, в основе которых лежат этнические конфликты и т.п. Угрозы спонтанного протеста, с точки зрения политической и социальной стабильности, гораздо более значимы. Разрушая и/или кооптируя организационные структуры, способные мобилизовать социальный протест, российский политический класс создает для страны довольно серьезный потенциал проблем в будущем.
Российская полития: от детских болезней - к хроническим заболеваниям?
В ходе трансформации российскому обществу не удалось добиться решения фундаментальных проблем страны, особенно тех, что связаны с политическим измерением модернизации. Было бы наивно понимать модернизацию как линейный процесс в духе всеобщего и полного перехода к демократии, как это виделось многим в начале 1990-х годов. Речь идет совершенно о другом. Сегодня, после очень тяжелого периода, связанного с "тройной трансформацией", политическая система России начинает выходить из длительного кризиса. Опыт трансформационных процессов, сопоставимых по масштабу с российскими, но протекавших в иных странах, показывает, что пути модернизации весьма извилисты, и новые режимы эволюционируют по направлению к демократии весьма медленно.
Ситуацию российского посткризисного синдрома можно оценивать двояко. Одна точка зрения, условно говоря, оптимистическая, в наиболее концентрированной форме представлена сегодня, например, идеологами, группирующимися вокруг журнала "Эксперт". По их мнению, то, что мы видим сегодня в России, - это трудное выздоровление после тяжелых родовых мук и детских недомоганий, испытанных страною в 1990-е годы. Но есть и другая точка зрения, прямо противоположная. Ее сторонники указывают на то, что "детские болезни" России 1990-х в 2000-е годы принялись лечить так, что они переросли в хронические заболевания, от которых теперь очень тяжело избавиться. Позицию, близкую этой, я высказывал в одной из своих публикаций, посвященной "партиям власти" в России ("Общественные науки и современность", 2006, N1).
Конечно, вряд ли стоит в ближайшее время ожидать летального исхода для нашей страны: объективных предпосылок на ближайшие годы для него нет. Ситуация в России, скорее, соответствует стабильной "хронике": ее можно уподобить течению сахарного диабета, при котором тяжелые поражения организма развиваются довольно медленно, но при нарушении диеты коллапс может наступить очень быстро. Хроническое заболевание, лекарство от которого пока не найдено, может длиться очень долго. Некоторые участники нашей дискуссии называют это ситуацией стагнирующего status quo; я предпочитаю термин "ловушка неэффективного равновесия", который используют экономисты. Он обозначает ситуацию, когда возможный выигрыш всех участников рынка (в том числе политического) мал, но все боятся нарушить равновесие, дабы избежать угрозы больших потерь в случае изменения статус-кво.
Выход из этой ловушки может быть двоякого рода. Либо возникнут внешние условия, нарушающие неэффективное равновесие - не по воле политиков, а в результате изменения ситуации в мире, происходящих в нем структурных сдвигов (не берусь судить о конкретных деталях). Либо по мере смены поколений российский политический класс дозреет до необходимости серьезных перемен, как это произошло после брежневского застоя, когда смена поколений номенклатуры повлекла за собой преобразования горбачевского периода. Но если речь идет о динамике в рамках персоналистского режима, то судьба страны будет очень сильно зависеть от конкретных персон.
Опыт показывает, что на одного успешного, продвинутого диктатора типа сингапурского Ли Куан Ю приходится огромное количество тех, которые всё разворовывают и доводят свою страну "до ручки". Понятно, что такие персоналистские режимы очень плохо поддаются прогнозированию.
Режимы с доминирующей партией (Тайвань, Мексика) эволюционируют несколько иначе. Со временем они последовательно открываются миру, их институционализация проходит параллельно стабилизации общественного устройства, они порой добиваются реальных экономических успехов. Для этих режимов характерно формирование устойчивых оппозиционных партий, которые могут затем стать решающей политической силой. В любом случае такие режимы обычно более предсказуемы.
В условиях персоналистских режимов личность лидера, повторяю, значит неизмеримо больше, чем при режиме доминирующей партии. Да, при персонализме бывают успешные лидеры, которые продвигают необходимые реформы, улучшают качество управления страной. Может быть, России повезет, и олицетворяющий персонализм политический лидер и проведет успешную модернизацию страны. Но статистически шансов на это еще меньше, чем при режиме с доминирующей партией.
Диагностика или рецепты?
Какой из этих режимов может укорениться в России, мы пока не знаем. Я не берусь предсказывать реальное направление эволюции нашей политической системы. Прогностический потенциал политической науки в целом не слишком высок. Очень часто или прогнозы оказываются заведомо неверными, или верные прогнозы делаются на неверных основаниях. Когда Горбачев пришел к власти, лишь единицы представителей экспертного сообщества на Западе предсказывали коллапс Советского Союза. Да и некоторые из тех, кто предсказывал такой исход, строили свои прогнозы, опираясь на неверные предпосылки.
Любой прогноз в политической науке - это проекция нынешнего положения дел в будущее с теми или иными вариациями. Учет очень большого количества факторов всегда сопряжен со значительными интеллектуальными усилиями по созданию каких-то сложных моделей. Но при этом зачастую из этих моделей выхолащивается суть дела. Пример тому - та же неэффективность многих моделей международной системы периода холодной войны, которые оказались неспособными предсказать распад СССР.
Я вообще скептически отношусь к прогнозированию в политике, тем более, если речь идет о долгосрочных трендах политического развития нашей страны и всего мира. И если кто-то считает, что умеет заниматься прогнозированием и готов делать прогнозы на 50 лет, - хорошо, мы встретимся через 50 лет, тогда и поговорим. Но, в отличие от ряда участников нашей дискуссии, я в принципе полагаю неправильным требовать от политической науки практического результата и ждать рекомендаций в духе чудодейственных рецептов выздоровления от всех болезней. Практические выводы пускай делают политики, которые, вообще-то говоря, и призваны заниматься лечением болезней общества.
Цель политической науки - это, прежде всего, диагностика,
поиск ответов на вопрос "почему?" А политологи, желающие изменить
мир, должны сами становиться политиками. Но это уже совсем другая профессия.
________________________________________________
ПОРВАТЬ С ТРАДИЦИЕЙ!
Я благодарен Игорю Моисеевичу Клямкину за предложение принять участие в дискуссии, завязавшейся вокруг обстоятельной статьи Михаила Краснова о характе-ристиках и причинах возниковения "персоналистского режима" в современной России. Признаюсь, я восхищен тем, что эта проблема не оставила равнодушными многих знаковых участников российской интеллектуальной жизни. Внимательно ознакомившись с теми из откликов, которые показались мне наиболее типическими, я понял, что, к сожалению, изучить их все у меня наверняка не хватит времени. Но и прочитанное, как мне показалась, дает некоторое понимание общего состояния и "градуса" дискуссий по общественно-политическим вопросам, а также позволяет аргументиро-вать вывод, согласно которому не следует надеяться на позитивные итоги этой кон-кретной дискуссии, иными словами - на рождение в споре комплексного и методоло-гически последовательного подхода, разделяемого большинством участников. Думаю, что в этой безнадежности отражается состояние нашего общества, "консолидированность" и "стабильность" которого существуют не более чем в фантазиях некоторых кремлевских политтехнологов.
* * * * *
Разбираясь в ходе состоявшейся дискуссии, я обратил внимание на четыре ее особенности, которые показались мне весьма существенными.
Во-первых, многие участники обсуждения (если не большинство) сочли за благо уйти от вопросов, поставленных в статье, послужившей поводом к дискуссии. Мало кто попытался непосредственно оппонировать М. Краснову или солидаризироваться с ним; темы, которые он затронул в своем эссе, также редко оказывались в центре внимания авторов, вступивших в диалог с ним. За небольшим исключением, их тексты представляют собой "рассказы о своем наболевшем".
Участников дискуссии можно разделить на три группы. Первая, строго говоря, ограничена одним ее инициатором; никто больше не коснулся сугубо институционально-юридических вопросов, обусловливающих перекосы в системе российской власти. Это неудивительно и соответствует тому правовому нигилизму, который доминирует в обществе с полного согласия власти, ничем в этом отношении от своих граждан не отличающейся.
Мысль авторов из второй, наиболее многочисленной группы, плавно течет среди абстрактных законов политического процесса, закономерностей формирования национальной идентичности, неочевидных исторических параллелей и "уроков", а также каких-то "высших сущностей" вроде национального интереса или воли народа. При этом практически все они (за исключением А. Янова) не приводят в обоснование своих позиций исторических фактов, надеясь убедить своих собеседников апелляциями к неким "общепринятым" штампам (как это делает, например, С. Марков, повествующий, что "именно духовностью была сильна Византия"). Жаль, конечно, что это сокровенное знание, найденное Сергеем Александровичем за годы его политтехнологической карьеры, не было еще доступно собравшимся в 4-й крестовый поход европейским бастардам, походя захватившим столицу этой благочестивой империи в 1204 г.
Наконец, у тех, кого можно отнести к третьей группе (в частности, например, у Б. Межуева) мы видим апологию "идеократии" как главной составляющей россий-ской государственности. Тексты этих авторов до предела перенасыщены указаниями на те или иные долженствования и констатациями того, что мы находимся в ситуации, когда существует только один правильный выбор. Нет нужды объяснять, что суть это-го выбора излагается только одним правильно понимающим ситуацию автором (каким - понятно). Непонятным в таких текстах остается то, кому "должна" Россия то одно, то другое, то третье (а она у этих авторов постоянно чего-то должна - "держаться по-дальше от Европы", "не забывать о своих корнях" и т. д.) - высшим силам, народу или самому автору...
Вторая особенность дискуссии состоит в вызывающих по меньшей мере удивление "хронологической направленности" (если так можно сказать) и "мере" предла-гаемых участниками подходов. Оказывается, многие из них смотрят не вперед, пыта-ясь разглядеть перспективы решения актуальных российских проблем, а назад, разы-скивая выход в каких-то исторических аллюзиях (здесь опять-таки нельзя не вспом-нить г-на Маркова с его "апологией Византии", суть социальной системы которой он предельно конкретно сводит к стремлению "жить по правде"). Исходя из каких-то бредовых представлений о том, что происходило на берегах Эгейского моря полторы тысячи лет назад, некоторые современные политологи считают возможным постичь пути развития России в XXI столетии. При этом они утверждают, что наследие про-шлого никуда не исчезло, как не исчезли наследие афинской демократии и римского права.
Последнее верно, но только потому, что и демократия, и право, - в отличие от набившей уже оскомину "духовности", - формализуемы и применимы к разным на-родам и разным историческим обстоятельствам. Будучи основаны на верифицируе-мых принципах, они позволяют с большой точностью определить, является общество демократическим или нет, действуют ли в нем законы, или ими пренебрегают. "Ду-ховность" же, воспринимаемая как "мера" легитимности, удивительна своей некван-тифицируемостью и даже неопределимостью. Если это и может что-то напоминать, то активизировавшиеся в последние десятилетия размышления убогих африканских дик-таторов о высокой "духовности" их народов, поруганной европейской колонизацией. В нашем случае парадокс состоит еще и в том, что о тлетворном влиянии Запада на "духовность" говорят представители русского народа, лишь в течение считанных лет находившегося под "западным" владычеством, зато столетиями унижавшегося теми "евразийцами", которых сегодня ему почему-то настойчиво предлагают на роль пово-дырей в будущее. В общем, большинству представленных в дискуссии текстов недос-тает того, без чего их нельзя, к сожалению, считать сколько-нибудь серьезными: уме-ния автора соотносить свои мысли с объективной реальностью и замечать несоответ-ствия между ними.
Третьей особенностью дискуссии я назвал бы полное пренебрежение ее участ-ников к детальному анализу социальных процессов. Их отличие от антропологов прежних времен (а я добавил бы, что и от профессиональных исследователей вообще) ярко подчеркнуто Э. Паиным, считающим, что если те "были учеными и хотели разо-браться в научной проблеме, то их современные эпигоны - идеологи, и лишь исполь-зуют научную риторику для конструирования идеологических мифологем". Любые добавления к этой формуле кажутся мне излишними. Поразительно и то, что никто из этих "исследователей" фактически не опускается не то что до изучения, но даже до признания более "мелких" социальных акторов, чем народ или нация. Интересы групп и классов, отдельных частей элиты или профессиональных групп не рассматриваются вообще. Соответственно, и о внешнем мире говорится лишь то, что он стремится по-мешать развитию России, - как будто он един в этом своем стремлении, а все другие интересы и цели у него вообще отсутствуют.
Наконец, в-четвертых, большинство участников дискуссии прямо или косвенно высказывается в поддержку "цивилизационного" подхода, хотя часто критикуют его отдельных (разумеется, западных) представителей. На мой взгляд, причины этого кроются, с одной стороны, в желании прикрыть нищету собственных аргументов (по-скольку эта теория позволяет говорить об "особом пути" России и не искать сравне-ния с другими странами и народами, что предполагало бы необходимость хоть что-то о них знать) и, с другой - в самолюбии, которое тешится тем, что наша страна пред-ставляет-де собой особую цивилизацию (например, в концепции Самуэля Хантингто-на признаются лишь три государства-цивилизации - Китай, Индия и Россия; при этом только "православная" цивилизация выходит за пределы России, что позволяет нашим апологетам имперскости надеяться на будущую экспансию). Из сомнительного в своей основе и по сути бездоказательного подхода извлекаются выводы, давно и беспово-ротно пронизавшие сознание отечественной элиты. Что такое пресловутая ось Пекин-Москва-Дели, если не туманная рефлексия "близости" трех держав-цивилизаций? И что еще навеет нашим державникам какая-нибудь новомодная теория, пригодная раз-ве что для досужих домыслов в местах уединенного размышления? Трудно и предста-вить…
В общем, если суммировать впечатления от дискуссии, то я разделил бы все представленные ее участниками тексты на две категории. Часть из них - это выплес-нутый на бумагу неструктурированный "поток сознания" их авторов; другая же часть - поток чего-то вовсе бессознательного и вообще бессвязного. Никаких выводов и ре-комендаций относительно того, что следовало бы делать в сложившейся ситуации (причем не миру или России, а тем конкретным людям, которые хотят понять, как и куда мы движемся) в материалах дискуссии я не нашел. И поскольку вопрос о том, "фатален ли персоналистский режим" в нашей стране, остался без ответа, я хотел бы сосредоточиться ниже именно на нем.
* * * * *
Я считаю, что "персоналистский режим" не фатален для России в том смысле, что у нее есть вполне зримые альтернативные пути развития. Но он фатален в том смысле, что его сохранение и консервация способны окончательно поставить крест на всяких надеждах на успешное развитие страны, на свободную и обеспеченную жизнь граждан в правовом государстве (действующем пусть и не всегда "по правде", кото-рая, как известно, у каждого своя, а по закону, который, напротив, должен быть еди-ным для всех).
Чтобы понять логику возникновения этого "персоналистского режима", более чем достаточно проанализировать историю России, Советского Союза, а потом новой России ХХ столетия и сопоставить ее с процессами, происходившими в мире в этот период. "Исследования" государственного строя Византии и корней "евразийской ду-ховности" способны дать для понимания происходящего в нынешней России прибли-зительно столько же, сколько изучение практики человеческих жертвоприношений у ацтеков для оценки политических и социальных процессов, идущих сегодня в Мекси-канских Соединенных Штатах.
В первую очередь следует сравнить Россию и ее эволюцию в ХХ сто-летии с судьбами других стран на этом же историческом промежутке. Между тем, ис-тория ХХ века однозначно указывает на три обстоятельства, достойных внимания.
Прежде всего, именно в ХХ веке оформилось уверенное лидерство открытых и демократических государств на фоне замкнутых автократических режимов - причем лидерство как в экономическом и социальном развитии, так и в совершенствовании технологического и инновационного потенциала. Среди первых 25 стран по объему ВВП на душу населения нет ни одного авторитарного государства. В то же время ни одно "не вполне демократическое" государство не может быть названо нетто-экспортером высокотехнологичных товаров и технологий в страны "первого" мира. Характерным для экономики ХХ века стал тот факт, что ни одно государство, которое являлось бы не вполне демократическим или не было глубоко интегрировано в миро-вое хозяйство, не смогло опередить Соединенные Штаты и Европу по масштабам эко-номического потенциала. Задача "догнать и перегнать лидера" не была решена ни од-ной страной с тех пор как Соединенные Штаты лишили Германию статуса ведущей экономики мира накануне Первой мировой войны.
Далее: экономические успехи ведущих стран стали базироваться на двух важ-нейших факторах: на комплексном и диверсифицированном характере их народного хозяйства и на разработке новых технологий и их массовом использовании в произ-водстве. Сегодня около 2/3 всех торговых сделок между развитыми странами - это торговля продукцией одних и тех же товарных групп. Узкоспециализированными - на производстве полезных ли ископаемых, энергоносителей или даже массовой промыш-ленной продукции - остаются лишь экономики "второго эшелона". Успехи хозяйственного развития обусловливаются также и тем, в какой мере те или иные страны стали "экономиками знаний". В мире сложилась совершенно новая система обмена, обеспечивающего существенные преимущества тем государствам, которые специализируются на создании наукоемкой продукции, потребляемой как внутри страны, так и за ее пределами.
Наконец, ХХ век продемонстрировал бесперспективность всех попыток политически (и тем более - идеологически) запрограммированного развития. Все "большие проекты" - от Британской империи до мировой системы социализма, от "третьего рейха" до Советского Союза - полностью развалились к концу столетия . Идеологии показали свою полную неспособность служить основой нормально функ-ционирующего общества. Соединенные Штаты - последняя великая держава, иден-тичность которой во многом имеет ценностно-религиозную природу, могут столк-нуться в новом столетии с серьезными испытаниями. Все без исключения попытки создания новых социальных систем в развивающихся странах бесславно закончились; ценой подобных экспериментов стало ухудшение большинства показателей развития этих стран даже по сравнению с теми временами, когда они обрели независимость от европейских метрополий.
Россия совершила в ХХ веке практически все ошибки, которые могла совер-шить крупная европейская держава. Ее развитие на протяжении большей части столе-тия определялось идеологической доктриной, сторонники которой нанесли жизнен-ному потенциалу страны больший урон, нежели экономические потрясения или внешняя агрессия. Огромный хозяйственный потенциал, подчиненный сомнительным целям противостояния остальному миру, был растрачен. Даже в лучшие годы Совет-ского Союза его экономические связи с внешним мире были менее интенсивными, чем связи любой европейской страны в середине XIX столетия. Научно-техническая революция, также исполненная в качестве "социального проекта", по сути не затрону-ла большую часть экономики, а общество не ощутило ни ее итогов, ни потребности в ней. К концу столетия стало очевидно, что усилия и жертвы, принесенные на алтарь гипертрофированно возвеличенных целей и задач, оказались напрасными.
Вторым шагом должно, на мой взгляд, стать перенесение акцента с аб-страктного "духа народа" на вполне конкретные особенности и интересы правящих групп. Следует также категорически отказаться от попыток изображать эти группы в виде "защитников национальных интересов" - хотя бы потому, что прежде чем их защищать, эти интересы должны быть поняты, но есть много оснований сомневаться, что национальные интересы в наше время достаточно глубоко осмыслены .
Особенностью России ХХ века стали такие резкие смены элит, которых не пе-реживала ни одна из ведущих стран мира. От традиционных аристократических элит конца XIX столетия, постепенно сдававших свои позиции повсюду в Европе, Россия перешла к исключающей их социальной стратификации, фактически истребив (или изгнав) значительную часть носителей доминировавшей прежде ментальности. Тем самым была оборвана жизненно важная традиция преемственности (уходящая корня-ми по крайней мере к началу XVIII века) культуры , наследственности власти, титулов и собственности, традиция ответственности представителей элиты за судьбы страны, полученной ими в наследство от предков и предназначенной для улучшения и переда-чи в наследство потомкам. Повторю: такая логика развития в ХХ веке прервалась практически повсеместно - однако в большинстве стран она прервалась именно в силу пересмотра логики, а не по причине жестокого "исключения из общественной жизни" ее приверженцев.
Парадоксом советской системы оказалось то, что - как и на Западе - политиче-ская элита была практически отделена от собственности и, более того, лишена, по су-ти, любой возможности ее присвоения. Отношение к стране как к собственности, ха-рактерное для прежних элит, сменилось отношением к ней как к объекту владения, который можно использовать лишь до поры до времени, пусть даже ничем себя не ог-раничивая в течение этого "периода пользования". Поведение такого рода (пусть и со многими оговорками) характерно для наемных менеждеров современных американ-ских компаний, стремящихся доказать акционерам и рынку, что дела фирмы идут от-лично, и при этом ни в чем себе не отказывающих за счет компании, а время от вре-мени выписывающих себе же многомиллионные бонусы. В случае неудачи они могут быть уволены советом директоров или собранием акционеров, не понеся серьезной ответственности.
Однако если на Западе к концу ХХ века политика окончательно превратилась в аналог менеджмента, то в России историческая память приверженцев жизни "по прав-де", а не по закону, влекла элиты назад. Это стало бросаться в глаза в конце советской эпохи, когда подверглись эрозии меритократические принципы, которым "ранняя со-ветская власть" вынуждена была следовать. В условиях очевидного упадка и деграда-ции системы участие в процессе ее основания или в ее защите уже не рассматривалось как важная заслуга того или иного человека. Идеологическая дезориентация требовала появления новой основы для ранжирования, и таковой стало богатство новых собст-венников, которое было позволено начиная со второй половины 80-х годов. Результат превзошел все ожидания. "Третье поколение" российской элиты ХХ века воспылало страстью обогащения, невиданного в истории страны, но не избавилось от менталите-та временщиков. Открытость России в 90-х и начале 2000-х годов способствовала превращению ее в государство, в пределах которого идет непрекращающаяся война всех против всех, и призом в этом побоище являются миллиарды долларов, перека-чанные в банки далеко за ее границами.
Соединение собственности с властью и их "свободная конвертация" друг в друга - вот что, а никакие не "духовность" или "евразийскость", представляет собой главную характерную особенность российской власти начала нового столетия. В этом состоит ее "правда", не совместимая ни с какими законами. Особый драматизм ситуации придает то, что новая "элита" оформилась, во-первых, крайне быстро и, во-вторых, сформировалась вне политической сферы (под "новой элитой" я понимаю элиту "образца 2000 года", а не ельцинского периода). Невозможно согласиться с Б. Межуевым, считающим, что в методах управления "никакой серьезной разницы меж-ду режимом Ельцина и режимом Путина усмотреть нельзя, за исключением опреде-ленных изменений в региональном управлении". "Серьезная разница" между "режи-мом Путина" (точнее, сформировавшейся при нем "элитой") и большинством ранее существовавших и ныне существующих политических элит сводится, по меньшей ме-ре, к трем пунктам.
Во-первых, эта "элита" сложилась не в продолжительной борьбе за какие-либо политические цели (а именно так формировалась большевистская элита в начале ХХ века, нацистская - в 20-е годы в Германии, и даже "ельцинская" в годы поздней пере-стройки и подъема демократического движения), а в ходе совместного обучения (пе-чально известный юрфак Ленинградского университета), службы (резидентура КГБ в Восточной Германии), коммерческой деятельности (комитет по внешним связям мэ-рии Санкт-Петербурга) или жизни по соседству (дачный кооператив "Озеро"). Она собрана совершенно случайным образом, и столь падка на самые нелепые "идеологе-мы" именно потому, что не имеет под собой никакого сущностного основания. Во-вторых, важнейшим скрепляющим элементом новой элиты стали ее бизнес-интересы. Стремление к обеспечению собственного материального благополучия, которого эти парии советской системы были лишены или до которого просто не смогли дотянуться, желание институционализировать это благополучие - вот главное, что связывает во-едино нынешний российский "политический класс". В-третьих, новая элита культи-вирует в своих представителях ощущение вседозволенности и несменяемости в гораз-до большей степени, чем любая из известных истории ХХ века. "Текучесть кадров" на руководящих должностях сегодня гораздо меньше, чем даже в советский период. Причина весьма рациональна: для сменяемости кадров необходимы критерии их эф-фективности, - а так как эффективность большинства высокопоставленных чиновни-ков близка к нулю, то начинать конкуренцию между ними означает, по сути, разру-шить систему, нацеленную на максимизацию срока получения ренты от "службы рос-сийским национальным интересам". Отсюда и преклонение перед государством, ко-торое может существовать у этого типа людей только до тех пор, пока они уверены в том, что "государство - это мы".
Для меня остается совершенной загадкой, почему все участники дискуссии, об-суждающие российский "персоналистский режим", обошли вниманием его экономи-ческие цели и вполне материальные задачи, которые он перед собой ставит.
Третий шаг к получению сколь-либо значимых результатов заключается в попытке взглянуть на ситуацию в российской власти, категорически отказавшись от той парадигмы, которую она навязывает обществу. Проиллюстрирую это на несколь-ких примерах. Так, инициатор дискуссии М. Краснов чуть ли не на первой странице своего текста сообщает, что "было бы еще полбеды, если бы бюрократия проводила политику Президента, но властный механизм устроен так, что бю-рократия же определяет еще и стратегические цели и методы их достижения, не давая при этом возможности обществу контролировать власть". Это значит, что автор уверен: именно бюрократия задает повестку дня - как для общества, так и для власти. Но сильно ли изменилась российская бюрократия за последнее десятиле-тие? Какой была ротация в ее рядах? Статистика показывает, что мобильность пред-ставителей бюрократического класса гораздо ниже средней, а количественный рост численности бюрократического корпуса делает эту часть общества еще более консервативной. Между тем, основные ориентиры российской политики сейчас далеко не те, какими они были в конце 90-х. Что же произошло? Обычно этот вопрос даже не ставится; но я уверен, что ссылки на бюрократию применяются сегодня в первую очередь для того, чтобы не раскрывать аудитории истинные замыслы властей, которые формулируются и исполняются весьма эффективно.
Вспомним, например, административную реформу Д. Козака или отмену соци-альных дотаций по М. Зурабову. Всем известно, что эти проекты "провалились" или не достигли своих целей. Но я бы сказал, что они не достигли декларировавшихся целей, - в то время как само их проведение (и временная дезорганизация органов управления, и резкое увеличение бюджетного финансирова-ния непрозрачных схем закупки и распределения лекарств) принесло инициаторам де-сятки и сотни миллионов долларов, элементарный "распил" которых и был целью но-вовведений. В этих случаях - как и в большинстве других - президент, федеральные органы власти, Дума и бюрократия сработали в полном согласии друг с другом. А то, что многие социологи и политологи подумали, будто именно бюрократы исказили во-лю народных защитников из Кремля, - не более чем свидетельство профессиональных качеств этих "гуманитариев".
С. Марков начинает одно из своих рассуждений с другого риторического во-проса: почему, спрашивает он, демократия в 1990-е годы не удалась? И начинает витиевато "раскрывать" эту тему. Между тем, ответ очевиден: в 90-е годы демократия "не удалась" лишь по одной причине - потому что те, кто сегодня при-держивается этой точки зрения, потеряли свои посты после "пролета" г-на Собчака на мэрских выборах в Петербурге в 1996-м году. По той же причине 2000-е годы, когда г-н Путин и его друзья заняли все руководящие кабинеты, воспринимаются ими как су-губо демократическая эпоха. Но почему мы должны соглашаться со столь странным восприятием и пытаться его "онаучивать", что характерно практически для всех поли-тологов? Разве успехи демократии измеряются уровнем жизни граждан и масштабом нефтяных доходов? К сожалению, подобные пассажи просто переполняют страницы большинства текстов, представленных в ходе дискуссии.
На деле же, как я полагаю, в России установился трогательный консенсус пред-принимательствующей власти и коррумпированной бюрократии. Различия их пред-ставителей сводятся к положению в статусной иерархии и в том, каким образом из-влекают они из этого положения свои "нетрудовые" доходы. Представители власти, как правило, прямо вовлечены в бизнес-схемы (начиная с Северо-Европейского газо-провода и заканчивая распределением участков под строительство в областных цен-трах по всей стране) и принимают решения, в результате которых вид и характер этих схем, равно как и круг их конкретных участников, могут изменяться. Представители бюрократии извлекают доход из создания препятствий по ходу исполнения уже при-нятых решений, на что власть закрывает глаза, заранее смирившись с тем, что подоб-ная рента является платой за лояльность исполнителей. Единственное, что может вы-звать резкую реакцию властей, - это попытки на низовых звеньях внести коррективы в общий план сделок, утвержденных предпринимателями.
Именно поэтому я не считаю, что российское чиновничество можно рассматривать как единую и сплоченную группу; она жестко разделена на две категории. Говорить о коррупции на самом верху государственной пирамиды не вполне корректно: на этом уровне доход извлекается из установления правил игры, а не из их нарушения или обхода. Правда, такое положение вещей делает затруднительным вообще говорить о представителях нашей власти как о государственниках, - но это тоже одна из характеристик, которую они присвоили себе при молчаливом согласии "экспертов" и граждан. Государственником человека могут сделать только его поступки, направленные на укрепление государства, а не его место в чиновничьей пирамиде или его самоощущение, - и это следует принимать в расчет.
В заключение этой части можно сказать: сегодня в России действительно сложился странный режим, который зиждется на единстве недемократически избираемой власти и коррумпированной бюрократии - единстве, предусматривающем возможность перераспределения в свою пользу значительной части общественного достояния. Все остальные задачи - как внутри-, так и внешнеполитические - несомненно вторичны по отношению к этой основной цели. М. Краснов совершенно прав, когда говорит о странностях российской Конституции, наделяющей Президента правами как верховного арбитра, так и активного политического игрока. Единственное, что хотелось бы добавить: подобная совокупность полномочий вручалась германскому "фюреру и рейхсканцлеру" Законом о перераспределении полномочий (Ermachtigungsgesetz) от 23 марта 1933 г.
Дальнейшее развитие российской власти может пойти в двух направлениях: с одной стороны, возможна консолидация власти вплоть до установления откровенной автократии, что рано или поздно приведет к протестам населения, которое за каким-то пределом не сможет сдерживать своего недовольства; с другой стороны, обогатившаяся верхушка осознает собственную заинтересованность в установлении исполняемых правил и процедур, что приведет к формированию квазидемократического, но правового государства. По мере смены одного-двух поколений возникнут предпосылки для более либерального демократического режима. Основная проблема, с которой в данном случае придется столкнуться стране, - это полная утрата модернизационного потенциала и непреодолимое технологическое и интеллектуальное отставание от большинства развитых стран. При этом отсталость не будет следствием "ошибок и недоработок" власти, так как и сегодня недопущение отсталости не является ее истинной целью.
* * * * *
Но что бы мы ни выяснили о сущности нынешнего российского режима (которая очень незначительно отличается от той видимости, которую легко наблюдать непредубежденному исследователю), гораздо более важно понять, каким мог бы оказаться наименее болезненный выход из сложившейся ситуации и какое направление развития России принесло бы наибольшие блага и процветание ее многострадальному народу.
Размышляя об этом, я прихожу к неутешительному выводу, что в ближайшие годы у нашей страны нет практически никаких шансов встать на путь стабильного и прогнозируемого экономического и политического развития.
В сфере экономики у России нет явных конкурентных преимуществ перед странами сопоставимого уровня развития. Основные ресурсы уже сегодня переоцененны, а заработная плата россиян (как ни печально это признавать) завышена по сравнению с реальной ценностью их труда. Уровень жизни в стране, которая не экспортирует практически ничего, кроме нефти и газа, не может быть таким, как сегодня. Для того, чтобы российские товары были конкурентоспособными при нынешней структуре промышленности, ее энергоемкости, эффективности государства и качестве инфраструктуры, средние доходы населения должны быть как минимум вдвое ниже чем сейчас, цены на энергоносители - в 2,5-3 раза ниже, а на сырье и металлы - в 3-3,5 раза. Может ли это стать реальностью при сохранении сложившейся сырьевой конъюнктуры? Разумеется, нет - и, следовательно, деиндустриализация России продолжится.
В политике поворот к демократии выглядит не только маловероятным, но даже опасным. Какой бы несовершенной ни была демократия в 90-е годы, большинство россиян склонно было смириться с тем, что основной вектор развития страны "смотрит" в западном направлении. Сегодня масштаб популизма российской политики несопоставим с ельцинскими временами, как несоизмерима и адекватность восприятия большей частью общества реалий внутренней и внешней политики. Следствием возвращения к демократии a la 90-е годы практически наверняка стали бы или закрепление авторитарных методов руководства страной, или приход к власти демагогов, оценивающих перспективы развития страны исходя из тех "методологических" принципов, часть которых была представлена читателям в ходе состоявшейся дискуссии. В любом случае нет оснований надеяться, что Россия начнет движение в сторону правового государства; законы как переписывались и переписываются под интересы власти, так будут переписываться и впредь. По мере обострения экономических проблем изоляционизм страны будет усиливаться. Итогом станет крах политической системы, предельный срок выживания которой я бы определил в 20-25 лет.
Сегодня никто не знает, какой окажется экономическая и политическая конфигурация мира через четверть столетия. Существуют очень смелые прогнозы: о распаде Соединенных Штатов; экономическом доминировании Китая; "окончательном упадке" Европы; о переходе хозяйственного лидерства к развивающимся странам, и т. д. Большинство таких предсказаний не убедительны, но вряд ли можно сомневаться, что за эти годы шагнет далеко вперед технологический прогресс, будут сделаны прорывные открытия в биотехнологиях и разработке новых материалов, в системах передачи информации и компьютерной сфере. Продремав два-три десятилетия в относительной изоляции, теша себя иллюзией "энергетической сверхдержавности", Россия еще больше отстанет от развитых стран мира, и догнать их за рубежом 2030-2040 годов она никогда уже не сможет. Экономика Европейского Союза будет превосходить российскую в 8-12 раз, китайская - в 6-7 раз. Страна станет "полем боя" крупных экономических субъектов, затевающих "ресурсные войны" друг с другом.
Если ли альтернатива? Мне кажется, что есть, - хотя я вполне отдаю себе отчет в том, что выбрана она сегодня не будет. Характеризуя этот альтернативный путь, я исхожу из двух предпосылок, каждую из которых считаю очевидной.
Во-первых, на протяжении последних полутора веков Россия постоянно отставала в политической сфере от ведущих европейских стран и государств, принявших западный путь развития. Это сковывало и сковывает реализацию ее человеческого потенциала, снижает его качество, не говоря уже о том, какие катастрофические потери понесла наша страна от гражданской войны, сталинского террора и нескольких волн эмиграции. Отказ от меритократического принципа отбора кадров стал реальностью, повсеместно закрепляемой в наши дни. Нынешняя номенклатура не обнаруживает способности к выбраковке своих членов - и легко можно понять, почему. В условиях, когда в недрах правящей элиты нет идеологической и даже политической борьбы, единственный шанс быть выброшенным из нее возникает в случае профессиональной непригодности того или иного работника. Но если каждый из бюрократов понимает, что занял свое место не по меритократическому принципу, а в целом случайно, желания осуществлять кадровые чистки не возникает просто потому, что никто не может чувствовать себя в безопасности. Современная российская номенклатура - это сплоченная серая масса, которая рекрутирует из остального населения новых членов по принципу ментального и интеллектуального сходства с нею самой. Ожидать от нее действий, направленных на расширение пространства свободы остальных членов общества, бессмысленно. Копирование каких-то образцов, существующих в других странах, крайне маловероятно.
На мой взгляд, на протяжении последних полутора столетий главным врагом российского народа было и остается российское государство, всегда ставившее себя выше своего народа и навязывавшее ему собственные представления и цели. Поэтому важнейшим условием возрождения страны я считаю ограничение власти и полномочий российского государственного аппарата. Некоторые участники дискуссии также выражали сожаление по поводу отсутствия в России независимых инстанций типа Верховного Суда США или независимых парламентов, которые могли бы ограничивать всевластие элиты. Однако, в отличие от этих коллег, я не вижу шансов для того, чтобы появился механизм, способный ограничить российскую власть изнутри страны (иначе говоря, я не могу согласиться с главным выводом М. Краснова, который считает, что в России "персонализм может быть преодолен с помощью персонализма, что только обладая президентским постом и при этом высокой популярностью (рейтингом), лидер может инициировать изменение самих институциональных условий, продуцирующих персоналистский режим". Практика горбачевской перестройки показывает, что это не так. Персоналистский режим вскоре возродился в еще более изощренных формах, чем в советский период. Даже российские демократы начала 90-х годов не были готовы написать конституцию, гарантирующую подлинное разделение властей, так как писали ее не для блага россиян, а для собственной выгоды.
В связи с тем, что подобный ход истории неоднократно воспроизводился в новейшей российской практике, я полагаю, что эффективное ограничение власти и полномочий отечественной бюрократии возможно только извне. То "изменение самих институциональных условий, продуцирующих персоналистский режим", о котором мечтает М. Краснов, может стать реальностью только тогда, когда Россия будет политически подчинена более крупной общности, распространяющей на нее свои правовые нормы, которых российские власти не смогут извращать или изменять. Иначе говоря: если власть не может распоряжаться суверенитетом страны на благо ее народа, она должна найти в себе силы отказаться от него или от его части. Именно в этом я вижу историческую роль "просвещенного главы персоналистского режима". Ошибкой как М. С. Горбачева, так в еще большей мере его западных партнеров стало то, что они "ограничились" демократизацией и разоружением СССР, но не интегрировали его в западные структуры типа Европейского Союза, что только и могло бы гарантировать невоспроизводимость автократических методов руководства страной.
Исходя из этого, я уверен, что в наибольшей мере интересам российских граждан и национальным интересам страны отвечала бы ее максимально возможная интеграция в Европейский Союз. Разумеется, этот процесс не станет реальностью в ближайшие годы - однако пример Турции свидетельствует о том, что даже не вступление в ЕС, но развитие в направлении принятия существующих в нем правовых норм способно радикально изменить страну и ее политический строй. Основные нормы российского законодательства должны быть приведены в соответствие с acquis communautaire и совершенствоваться по мере ее изменения. Высшие судебные инстанции, способные оценивать российское законодательство, тем самым были бы выведены из-под контроля Кремля, кто бы ни занимал главный кабинет в стране. Соблюдение антимонопольного, трудового, гражданского и избирательного законодательства проверялось бы не марионеточной Федеральной антимонопольной службой или Федеральной регистрационной службой, а авторитетными и принципиальными брюссельскими регуляторами. Повторю еще раз: Россия очевидным образом демонстрирует неспособность власти распорядиться имеющимися у нее полномочиями и возможностями в интересах своего народа, и независимый арбитр не может быть в нынешних условиях найден внутри самой нашей страны. И рано или поздно это будет признано - но какой станет цена такого признания, я не могу предсказать сегодня (да и не хочу предсказывать).
Во-вторых, в экономическом отношении современная Россия представляет собой несамостоятельную страну. Только за последние шесть лет (по данным министра финансов РФ Алексея Кудрина, озвученным им в Высшей школе экономики) доля сырьевых товаров в российском экспорте увеличилась с 67,1 до 84,2%, а доля "нефтегазовой составляющей" в бюджетных доходах - с 31 до 54%. Как только позитивный эффект повышения сырьевых цен исчез (с начала этого года они остаются практически стабильными), вскрылась и другая сторона этой несамостоятельности: за первые четыре месяца текущего года экспорт товаров и услуг из России в страны "дальнего зарубежья" вырос всего на 6,9%, а импорт из них - на 56,2%. По сути, происходит все более явный обмен сырья на готовые изделия, причем через полтора-два года положительное сальдо российского торгового баланса может сойти на нет.
К этому добавляется хозяйственная дезинтеграция постсоветского пространства, позиции России на котором становятся все менее влиятельными, а также усиление Китая и объединенной Европы, причем Китай явно намерен сделать зоной своего влияния Центральную Азию, а ЕС - западные постсоветские государства и страны Закавказья. Всего через пять-десять лет Россия может остаться в хозяйственном одиночестве, "зажатой" между двумя экономическими сверхдержавами. В такой ситуации "исторический выбор" между "западным и восточным направлениями" развития станет совершенно необходимым.
Каким будет этот выбор, гадать не приходится. Уже сейчас больше половины российской внешней торговли приходится на страны Европейского Союза, причем Европа же является основным источником инвестиций, а также сама привлекает массированные капиталовложения российских предпринимателей. Китай остается во многом terra incognita. Объем товарооборота с ним минимален (а доля технологических товаров в российском экспорте не превышает 1%), к взаимным же инвестициям обе страны относятся с явным подозрением. Сегодня правительство предпринимает попытки переориентировать часть топливно-сырьевого экспорта на Китай, но успех этих усилий еще не гарантирован, а их смысл не вполне ясен, так как ресурсы можно продавать на любых рынках и покупать у кого угодно. В такой ситуации единственно рациональным станет выбор еще более тесного экономического сотрудничества с ЕС, которое только и сможет обеспечить России возможность конкурировать на мировых рынках, находясь в составе одного из самых мощных хозяйственных блоков, а не тратя силы и средства в противостоянии с крупными экономическими игроками. На мой взгляд, экономическая интеграция с Европой является для России такой же жизненной необходимостью, как политическая инкорпорированность в общеевропейскую институциональную структуру.
Способна ли нынешняя российская власть инициировать резкий поворот в сторону Европы? Надо отдать ей должное: отчасти она пыталась осуществить его в 2001-2003 годах, когда наметилось политическое сближение с Германией и Францией и были начаты разговоры о "европейском выборе" России. Однако сами европейцы оказались не готовы к полноценному диалогу; к тому же, Россия стремилась апеллировать не к общеевропейским институтам, а к национальным столицам, не вполне осознав масштаб изменения европейских реалий, сделавшего единым центром принятия решений Европейскую комиссию. Со временем "европейский драйв" исчерпался, и сегодня отношения между РФ и ЕС трудно признать хорошими. По мере укрепления уверенности отечественной элиты в собственных экономических и политических возможностях потенциал сотрудничества быстро сокращается - и, видимо, будет сокращаться в обозримой перспективе.
Есть ли в российском обществе силы, способные призвать народ к переосмыслению своего отношения к Европе и общеевропейским процессам? Пока их не видно, но они могут "выйти из тени" - и не исключено, что у них есть неплохая возможность завоевать симпатии избирателей. Разумеется, усилия властей на протяжении последнего времени породили в нашем обществе определенный негативизм по отношению к европейской направленности внешней политики страны в частности и активному вовлечению России в многосторонние институты - в целом. В то же время активность экономических и культурных связей с Европой, практика все более частых поездок россиян в страны Европейского Союза, а европейцев - в Россию и постсоветские государства, а также в целом миролюбивая и негегемонистская внешняя политика ЕС формируют в сознании граждан Российской Федерации благоприятный облик Европы. Сейчас лишь 5% наших граждан уверены, что Россия - это скорее "азиатская" страна, которая должна ориентироваться на сотрудничество с соседями в Азии, но гораздо больше заявляют о том, что положительно относятся к той модели, которая реализуется в ЕС (41% против 7%, по данным РОМИР-мониторинга). К самому ЕС "хорошо" или "скорее хорошо, чем плохо" относятся 69% россиян, а к гражданам составляющих его стран - 86%. В таких условиях у проевропейски настроенных сил в Российской Федерации есть достаточно широкая социальная база.
Несомненно, в нашем обществе распространены и мифы о том, что Европа - это стареющий и чуть ли не умирающий континент, не понимающий своей исторической миссии, захлестываемый волнами иммигрантов и проигрывающий не только Китаю, но и Соединенным Штатам в экономическом соревновании. Хотя большинство из этих мифов - не более чем идеологические штампы, рассчитанные на сознание всякого рода "наших", их распространенность не следует игнорировать. Для граждан, все еще желающих для России великой миссии, целесообразность вступления России в ЕС может гораздо более убедительно аргументироваться тем, что в этом состоит своего рода высшая миссия России, призванной спасти стареющую, самодовольную и ленивую Европу от вызовов нового столетия, исходящих с Юга и Востока. Нужно настойчиво и убедительно объяснять, что Россия стремится в Европу ради придания ей нового динамизма и в состоянии занять достойное положение именно в Европе (а не играть роль сомнительного "лидера" в "стратегической паре" с Китаем, на что могут надеяться только те, кто не понимает ни масштаба возможностей, ни стремлений наших "китайских друзей"). На мой взгляд, идея "изменить Европу изнутри" может оказаться очень плодотворной и стать основой своего рода "наднационального проекта", способного увлечь множество россиян.
* * * * *
Подведем некоторые итоги.
Во-первых, нет убедительных доказательств, что современное состояние российской политики и экономики в определяющей степени обусловлено историей России за пределами последних ста пятидесяти лет. В нынешних условиях возможности модернизационных проектов, основанных на тщательном изучении опыта других стран и народов, позволяют минимизировать "родимые пятна" истории и свести на нет негативный исторический опыт прежних столетий. Оправдывать недемократичность или экономическую неуспешность России ее историей X-XVII веков ошибочно и бессмысленно. Искать в ее исторических особенностях и ее особой "духовности" инструменты обоснования того или иного политического курса - значит заниматься безответственной демагогией и ограничивать тот спектр альтернатив, которым сегодня располагают наша страна и ее народ.
Во-вторых, есть все основания утверждать, что нынешнее правительство Российской Федерации не отражает национальных интересов России - причем по двум причинам. С одной стороны, эти интересы нигде не определены и не заявлены; никто и никогда не пытался выяснить представления самого российского населения о том, какое направление развития страны оно считает правильным и какие механизмы такого развития - подходящими. С другой стороны, современное руководство России слишком занято реализацией собственных материальных интересов и аккумулированием личного богатства, чтобы считать его озабоченным проблемами народного благосостояния. Но есть и еще одна причина, все более настойчиво дающая о себе знать, - растущая депрофессионализация элиты, без всякого внятного основания рекрутируемой из "близкого круга" действующих бюрократов.
В-третьих, предпринимавшиеся в последние десятилетия попытки как демократизации страны "сверху", так и авторитарной модернизации ее экономики не приводят к успеху. Их общим результатом становятся дальнейшая дезорганизация элит, все большее пренебрежение меритократическим принципом в управлении, нарастающее разграбление национального богатства страны и прогрессирующая утрата связи политической элиты с собственным народом. В XXI веке Россия может выжить только как органичная часть более широкого сообщества, в рамках которого может быть установлен современный политический режим, гарантированы права граждан, восстановлен позитивный "естественный отбор" национальной элиты и рационализировано использование национального богатства страны и ее экономического потенциала. На мой взгляд, эта задача может быть решена "персоналистским лидером", но ее можно будет считать решенной только в том случае, если за счет сокращения суверенитета страны возврат к авторитаризму станет невозможным.
В-четвертых, поскольку вероятность появления подобной персоны во главе страны в рамках нынешней логики формирования элит представляется крайне небольшой, задачей российского демократического движения я назвал бы создание серьезной политической силы проевропейской направленности, которая выступала бы за космополитический взгляд на мир и делала бы акцент не на "общие ценности" и "морально-этические принципы", а на конкретные политические практики России и стран ЕС, убеждая сограждан в преимуществах последних и в желательности освоения европейских практик (не "ценностей") на российской почве. Задачей-максимум в таком случае провозглашалось бы вступление России в объединенную Европу; задачей-минимум - реформирование страны на основе европейских правовых норм и европейских политических институтов.
Говоря предельно кратко, мечтой нынешней власти является управление Россией на основе мифологизированных исторических традиций, используемых для дальнейшей изоляции страны от мира; задачей российских демократов, напротив, является десакрализация этих мифов и их разрушение ради формирования в нашей стране светского демократического гражданского общества, входящего в семью европейских народов на равных, а не эксклюзивных правах. История России показывает: она ускорялась в своем развитии и выходила на передовые рубежи только тогда, когда решительно порывала с теми традициями, которые сейчас возрождаются российской "православной" и "государственнической" бюрократией.
________________________________________________
Лев ГУДКОВ,
директор Аналитического центра Юрия Левады
РОССИЙСКИЙ АВТОРИТАРИЗМ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТЕКСТ
СИЛА ВЛАСТИ И БЕССИЛИЕ ПРАВА
ОБРАЗ ГОСУДАРСТВА В МАССОВОМ СОЗНАНИИ
ПОЧЕМУ ЖЕ В РОССИИ НЕ ПОЛУЧИЛАСЬ "ДЕМОКРАТИЯ"?
СИСТЕМА И ЛЮДИ В СИСТЕМЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
О ХАРАКТЕРЕ ДИСКУССИИ
В обстоятельной статье Михаила Краснова представлен профессиональный
анализ ценностных посылок нашей конституции, считающейся у отечественных политологов
"одной из самых демократических в мире". Его выводы могли бы стать
отправным пунктом для обсуждения особенностей или скрытых пороков российского
государственно-правового устройства. Но - не стали. Поскольку, как выяснилось,
экспертов, способных обсуждать проблематику российской государственности на
том же уровне, что и автор статьи, слишком мало или они не захотели принять
участие в данном обсуждении. Общий вывод Краснова: авторитаризм и произвол российской
политики предопределены заложенным в конституции персонализмом, предоставляющим
главе государства огромные полномочия, сравнимые с царскими, - остался почти
без внимания. Может быть, потому, что такая констатация положения вещей показалась
участникам дискуссии самоочевидной и бесспорной.
Между тем возводить нынешний авторитаризм к издержкам конституции мне представляется
несколько упрощенным объяснением нынешних проблем российской государственности.
Сила власти и бессилие права
Старый тезис: там, где установлена правовая норма, там прекращается политическая борьба, не применим к России, где, как известно, строгость законов смягчается необязательностью их исполнения. Российское государство слишком отягощено своим не уходящим прошлым, генетической связью с советской тоталитарной системой. В конститутивную силу права верят в России, кажется, только университетские профессора. Население на своей шкуре познает то, что почему-то не принимается во внимание участниками дискуссии: законы в России пишутся не для тех, кто у власти, а для подданных.
Принятая конституция 1993 года не означала закрепления реального соотношения многообразных сил или интересов. Она должна была, по мысли ее составителей, подготовить возможности переноса западных правовых государственных форм на отечественную почву, обеспечить принуждение реальности к тому, чтобы та уложилась в намеченные рамки. Это был костюм "на вырост" - вообще-то старая идея идеологического воздействия, ориентирующая на пропаганду, обучение, внесение внешних образцов в тупую и косную среду российского традиционализма или авторитаризма. Но из задуманного ничего не вышло и не могло выйти, поскольку писаным нормам мало соответствовала реальная практика управления и господства, которая и подчинила себе писаную конституцию через управляемый и зависимый суд.
Никакой опоры под декларируемыми конституцией положениями в виде структуры интересов, морального согласия, групповых представлений в России не было. Поэтому образцово либеральная конституция, провозгласившая гарантии частной собственности, номинальное разделение властей, парламентаризм, права и свободы человека, очень быстро обнаружила свой декоративно-риторический характер и осталась главным образом на бумаге. Реальностью же, т.е. тем, что учитывают люди в своем понимании происходящего и своем поведении, оказывается совсем другое. Реальностью оказываются слабо артикулированные представления о партикуляристских отношениях власти и населения, о средствах ее подкупа или манипулирования ею, о естественности и органичности произвола - короче, все те неписаные правила и нормы поведения и кооперации с властью, которые существовали и раньше.
Правоприменение в остающемся по-прежнему иерархическом и неравноправном обществе зависит от статуса и социального положения заинтересованных групп или лиц. Фактические правовые, государственно-политические, экономические и другие отношения складываются на основе неформальных практик взаимодействия держателей власти (судебной, административной, законодательной) или распорядителей властных ресурсов с зависимым населением. Правовые нормы и законы в России будут еще долгое время (для нас, живущих сегодня, исторически "всегда") интерпретироваться под действием интересов правящих или влиятельных группировок и кланов.
В социологическом плане это означает, что внутренние противоречия в законодательстве нельзя относить только на счет плохой юридической работы самих законодателей, их некомпетентности, хотя и это, безусловно, имеет место. В сохранении юридических двусмысленностей либо принципиальной несогласуемости правовых норм заинтересованы различные субъекты действия, обладающие значительным влиянием на законотворческий или законодательный процессы. Устойчивость появления разночтений в текстах законов, кодексов, подзаконных актах указывает на систематические препятствия рационализации права или блокировку усилий по его формальной кодификации, вызванные не собственно правовыми причинами.
Неопределенность права отражает природу и само устройство государственной жизни в России, некодифицированность отношений власти и подвластных. А функциональное значение подобной юридической или нормативной многозначности заключается в сохранении для властвующих групп возможностей отказа либо ухода от установления и вменения политической и государственной ответственности.
Разумеется, учитывать характер и качество разработки и изложения законов важно и нужно. Однако без понимания того, как и под действием каких факторов или сил они работают в реальности, их знание и толкование может превратиться в деятельность, удовлетворяющую лишь самих ученых юристов. Вера в силу права, характерная для реформаторов начала 1990-х, их стремление создать правовое государство с чистого листа свидетельствовали в наших условиях не столько о либеральности устремлений и приверженности идеалам такого государства, сколько о слабом понимании социальной реальности советского и постсоветского общества. Это не упрек кому-то лично, а тем более - М.Краснову. Это констатация состояния экспертного сообщества, к которому мы все принадлежим и которое тоже имеет свои причины. Состояния, которое не могло не сказаться и на ходе данной дискуссии.
В выступлениях ее участников под государством понимаются разные вещи. Одни, говоря о нем, имеют в виду персонифицированную политику Путина и его будущего преемника, тем самым идентифицируя личность правителя с действующим режимом. Другие рассуждают о природе российского государства (империя, национальное государство), третьи - о качестве работы исполнительной власти и задачах реформы административной системы, четвертые - о взаимоотношениях государства и бизнеса или государства и "народа"… Такая тематическая неопределенность обсуждения - вполне естественное следствие авторитаризма, при котором разные плоскости функционирования государственной машины четко не разведены ни в практике государственного управления, ни, соответственно, в сознании экспертов.
Главная проблема российской государственности заключается в том, что разделение властей продекларировано, но реально не проведено. И в обозримое время оно проведено быть не может, поскольку не произошло разделения "государства" и "общества". Власть, венчаемая президентской администрацией, ведет себя вполне "по-советски", как полный хозяин государственного аппарата управления и как собственник безгласного населения. Другими словами, более чем за 15 лет после краха советской системы не возникло "общества" как специфического, автономного от власти типа организации людей, системы независимых от нее институтов, как не возникло и самой институционализации связей и отношений, основанных на частных интересах и групповых солидарностях.
Меняется стилистика политических режимов, но характер государственной власти принципиально не меняется. Периоды правления окрашены личностью первого лица государства и манерой его правления, но сама по себе личность правителя мало сказывается на сложившихся механизмах прихода к власти, а значит - и на принципах подбора кадров исполнителей, на способах поддержки первого лица, на массовых представлениях о легитимности оснований власти. Персональная зависимость от главы государства руководителей всех ее ветвей - правительства, ведомств, председателей судов, руководителей парламента, наместников в регионах - придает государственной машине внешне централизованный и рациональный вид, но, по сути, свидетельствует об ее глубоко архаичном, патерналистском характере.
Власть в стране централизована, недифференцирована и персонифицирована. Она принадлежит президенту, "вождю" народа и осуществляется посредством неконституционных органов управления и механизмов господства (через администрацию президента). Она опирается на тайную политическую полицию (ФСБ) и другие спецслужбы, выведенные из-под контроля закона, суда и парламента, на наместников центральной власти в провинции, на систему пропаганды и агитации в лице полностью зависимых от федеральной или местной власти СМИ. Ее резерв - вооруженные силы и директорат крупнейших корпораций и предприятий (резидуум планово-государственной экономики), а также - сегодня еще слабые, но в будущем, возможно, способные играть более значимую роль - парамилитарные или молодежные организации, характерные для начальных периодов тоталитарных режимов, вроде "наших" и тому подобных организованных статистов "народа". Эта власть фактически бесконтрольна, поскольку ей ничто не может быть противопоставлено: авторитет представительских органов, назначаемых из администрации президента, у населения невысок во всех группах, а их дееспособность вызывает большие сомнения.
В стране сегодня нет автономных, т.е. независимых от Кремля или регионального начальства, фокусов морального или символического авторитета. Ни политические партии, ни профсоюзы, ни интеллектуальная или культурная элита ("интеллигенция") не пользуется сколько-нибудь существенным влиянием. Остро ощущаемый аморализм и беспринципность сегодняшних "продвинутых" групп, их интеллектуальная стерильность являются причиной отказа в признании за ними авторитетности и сколько-нибудь значимой и самостоятельной общественной и политической роли.
Специфический в наши дни тип публичного политика или журналиста - это человек, сменивший свои "убеждения" (скажем, либерально-западнические на "национально-государственнические"), "ренегат", как его можно назвать в соответствии с известной политической традицией, пытающийся объяснять свое незамысловатое предательство общезначимыми соображениями и высокими принципами (геополитическими взглядами, интересами модернизации страны, патриотическими чувствами и т.п.). Примечательно, что власть охотно подбирает такой "человеческий материал", используя его с чувством глубокого удовлетворения, - подобно тому, как в свое время Сталин держал рядом с собой тех, кто был с "пятном". Этот тип человека указывает на вектор происходящего, на направление общественного дрейфа, позволяя предсказывать появление в ближайшее время и других типов заменителей элиты.
Однако нынешняя помпезность создаваемой "элитой" официальной картины власти в "сырьевой империи" скрывает реальную беспомощность правителя перед бюрократической системой, равно как и его дилетантизм, проявляющийся в импровизационном решении повседневных задач управления. Если нет институционализированных правил смены высшей власти, то - возвращаюсь к сказанному выше - нет и механизмов установления государственной, политической или правовой ответственности за проводимую политику, за действия, совершаемые в период пребывания у власти. Например, за развязывание не только первой, но главное - второй чеченской войны, более жестокой и кровопролитной, когда, в отличие от 1994 года, было уже ясно, что такое война с собственным населением. Можно назвать и другие политические просчеты или государственные преступления, оставшиеся для представителей власти без последствий. Никто, скажем, не понес наказания ни за Норд-Ост, ни за Беслан. Нет, соответственно, и критериев оценки эффективности власти. При этом ее безответственность определяется и тем, что вопросы как оперативного управления, так и выбора стратегии решаются небольшим числом допущенных к власти лиц, ее серым или теневым кабинетом, о чем публичной информации не поступает.
Отсюда, однако, не следует, что устойчивость государственной системы задана и обеспечена теми, кто возглавляют страну, т.е. узким кругом высшего государственного руководства. Она задана и обеспечена инерцией оставшейся без политического или правового контроля бюрократической машины, самой устанавливающей себе нормы и правила функционирования, а потому слабо управляемой, аморфной и неэффективной с точки зрения стратегических национальных целей. Такая система не может не быть коррумпированной, поскольку ей приходится ежедневно разрешать конфликты интересов, согласовывать разнонаправленные мотивы действующих субъектов - населения, бизнеса, корпораций, ведомств. И, не имея твердых норм определения ситуации, каждый конкретный чиновник или бюрократия в целом при отсутствии политического контроля будет решать эти проблемы всегда с учетом собственных материальных интересов. В таком виде система сложилась не сегодня и не завтра может быть изменена. Скорее всего, такой порядок государственной власти сохранится и в будущем.
Отсутствие разделения властей указывает на то, что блокированы механизмы систематического государственно-политического целеполагания и что цели национальной политики носят "случайный" и не публичный характер. Поскольку нет механизмов открытой конкуренции за власть и ухода из нее, нет механизмов привлечения к ответственности, все усилия тех, кто стоит сегодня у власти, подчинены задачам ее удержания, т.е. опять же эгоистическим интересам отдельных людей и групп. В такой системе суд и правоохранительные органы всегда будут играть роль средства защиты тех, у кого в данный момент властные рычаги и ресурсы. А какие конкретно способы идеологического обоснования власти, оправдания репрессий против ее оппонентов, мобилизации массовой поддержки будут использованы, - вопросы важные, но не принципиальные для понимания самой природы российского государства и его конституции.
Такая система оказывается не способной к внутреннему и последовательному изменению, трансформации или модернизации, хотя разговоры о необходимости реформ административного управления, повышении эффективности государства будут вестись до тех пор, пока существует эта система. Даже при самых искренних декларациях о курсе на модернизацию (предположим, что это не туфта и не привычное государственническое пустословие, а намеченный к реализации политический курс), они останутся только декларациями. Более того, и при уже принятых "прогрессивных" изменениях в законодательстве правовые нормы и указы работать не будут, поскольку они не поддержаны соответствующими функциональными связями с другими институтами, нормами, ценностями и интересами других групп и участников.
Образ государства в массовом сознании
Нельзя не согласиться со многими участниками дискуссии, полагающими, что мы имеем сегодня дело с неэффективным государством - уже не тоталитарным, но еще и не демократическим, не правовым. Это - полицейское государство. Завороженная высокими рейтингами президента околокремлевская публика рассматривает их как показатель прочности сложившейся композиции власти, массового одобрения политического курса В.Путина, признания успешности осуществляемого им руководства. Однако экспертные оценки, согласно которым нынешний политический курс означает свертывание самого процесса модернизации государства, не очень-то отличаются от оценок населения. Конечно, такие оценки (особенно в условиях, подобных нынешним российским, когда пространство публичной свободы в СМИ крайне стеснено) всегда слабо рационализированы, противоречивы и обусловлены в первую очередь повседневным опытом. Прежде всего - заботами о материальном существовании, личной безопасности, балансом страхов, угроз и надежд, определяющим представления о ближайшем будущем. И, тем не менее, оценки эти весьма показательны.
За исключением персоны президента, престиж и авторитет институтов власти в глазах населения крайне низок. Особенно негативно оценивается деятельность тех из них, с которыми наши сограждане непосредственно взаимодействует: милиции, суда, прокуратуры, местных властей. Но и отношение к Госдуме, Совету Федерации, политическим партиям характеризуется явным неуважением, отчасти даже презрением - правда, в сочетании с чувством безнадежности и апатии.
Можно легко отмахнуться от заграничных оценщиков ("наблюдателей за правами человека") положения дел в стране, но отмахнуться от собственного населения уже труднее, если вообще возможно: люди не уважают власть, не уважают свое государство, хотя и побаиваются его. Причин тут несколько: социальная демагогия, невыполненные обязательства, обман граждан, административный произвол, коррупция и продажность чиновников, их некомпетентность, хамство, чувство социальной несправедливости, а также то, что чиновничество всегда и во всех случаях защищает интересы тех, у кого власть и деньги. Унаследованное от советского прошлого и, вместе с тем, подпитываемое сегодняшним опытом, сознание опасности, исходящей от государства, беззащитности перед любым представителем власти, заставляет граждан держаться подальше от политики и всей сферы государственной жизни.
Высокий рейтинг Путина, образовавшийся из патерналистских надежд и иллюзий зависимого, по-прежнему полукрепостного населения, из отсутствия реального выбора (как в свое время при Горбачеве и Ельцине), сам по себе еще не свидетельствует об удовлетворенности деятельностью президента. Скорее, он свидетельствует о недоверии населения к государству как таковому и его институтам от суда до банков, о низкой оценке работы государственной машины в целом. В феномене рейтинга Путина мы имеем дело с психологическим трансфертом этой неудовлетворенности в надежды на доброго царя, с превращением ее в слабую веру в то, что символический отец нации не позволит государству сбрасывать с себя прежние социальные обязательства, как оно последовательно делало это в последние годы. Поддержка Путина изначально проистекала из ожиданий, что он заставит чиновников выполнить свои функции "заботы о простых людях", чего ждет от него население, у которого нет значительных средств и ресурсов для собственного подъема или инициативы.
Бедность и производные от нее упования в данном случае - не вина этих людей. И объясняется она не отсутствием "протестантской этики", ленью, пьянством, традиционализмом и проч., в чем обычно ищется глубинный смысл русской отсталости. Бедность - результат специфической политики советского и постсоветского государства, систематическим образом десятилетиями эксплуатирующего население ради своих идеологических целей или просто ради сохранения самого режима постсоветского образца. В свою очередь, "борьба с бедностью", призванная засвидетельствовать признание государством своих долгов перед населением, - часть легитимационной легенды власти авторитарного лидера.
Эти обстоятельства более или менее четко сознаются обществом, памятующим о жертвах, которые оно приносило для индустриализации страны, защиты государства, превращения его в сверхдержаву. Поэтому население терпеливо, хотя с каждым новым поколением все меньше и меньше, ждет от власти выполнения ее патерналистских обязательств, оплаты долгов по "общественному договору". Однако объем социальных обязательств, которые государство ранее обещало исполнять (медицина, образование, соцобеспечение, поддержание культуры), несмотря на все нефтегазовые сверхдоходы, постоянно сокращается, а качество их исполнения становится все хуже. Нынешняя власть втихую скидывает с себя эти функции, постепенно перенося их оплату на население; оно бы сделало это еще раньше, но боится социального взрыва и потери популярности, которая в значительной степени как раз и связана с сохраняющимися с советских времен массовыми иллюзиями.
Если рассматривать с этой точки зрения мнения населения, фиксируемые в ходе регулярных опросов Левада-центра, то говорить о каких-то особых или признанных успехах политики Путина и его правительства трудно. Несмотря на благоприятную внешнюю ситуацию (цены на сырье, изначальное отсутствие враждебного окружения), положение в стране, по мнению основной массы россиян, в принципе не меняется. Да, через 15-17 лет удалось восстановить средний уровень материального благосостояния населения, который оно имело до начала краха советской системы. Примерно 15-20% наших сограждан, по их признанию, стали жить лучше, у них заметно выросли доходы, но основная их часть (45-48%) никакого роста не ощущает. Люди вынуждены работать больше, интенсивнее, чем в советское время, чтобы удержаться на том же уровне - по их мнению, несправедливо низком. Остальные же живут просто бедно, хотя их доля за последние пять лет заметно сократилась (с 40 до 25-27%).
Что бы ни говорили представители министерства финансов о снижении инфляции, люди воспринимают ее по-своему, полагая, что цены растут быстрее их доходов, причем особенно болезненно это ощущают малообеспеченные группы. Возможно, такое восприятие определяется и тем, что дифференциация доходов и уровней жизни разных групп быстро растет. Если по официальным данным разрыв между верхними и нижними 10% населения составляет 15-17 раз, то по экспертным оценкам - более 25 раз. Другими словами, не общество в целом более или менее равномерно становится богаче, а растет отрыв группы обеспеченных от основной массы людей. То же самое относится и к различиям между регионами. Говоря очень грубо, это означает, что национальный прирост поглощается примерно одним довольно узким социальным слоем, тесно связанным с государством и зависимым от него бизнесом. Масса же населения вынуждено оценивать и собственную жизнь, и власть по принципу: "Хорошо уже то, что не стало хуже".
Даже простой перечень основных претензий россиян к российской
власти показывает, какой образ государства сложился в массовом сознании:
1. Руководство страны не справляется с проблемами бедности, оно не может устранить
причины социальной несправедливости (так считают 67% опрошенных!);
2. Власть коррумпирована на всех уровнях (49%), но более всего - наверху;
3. Высшее руководство не способно обеспечить экономический подъем в стране (44%);
4. Оно попустительствует расхищению государственной собственности (39%) [1].
Сегодня 9 из 10 россиян убеждены в коррумпированности высших эшелонов власти; 92% респондентов считают, что высшие российские чиновники имеют счета за рубежом. 49% опрошенных полагают, что коррупции и злоупотреблений в высших эшелонах власти в последние 3-4 года стало значительно больше, чем раньше, 32% думают, что в данном отношении ничего не изменилось, и только 11% верят, что уровень коррупции в последние годы снизился. 67% россиян убеждены, что дела о коррупции если и возбуждаются, то всякий раз не потому, что об этом стало известно прокуратуре и правоохранительным органам, а потому что это кому-то "выгодно" или что началась борьба за конкретное кресло. В чистоту помыслов и намерений борцов с "оборотнями" верят лишь 20% респондентов.
Люди ощущают, что растет уголовная преступность, а защита от преступников, обеспечение повседневной безопасности граждан (прямая функция государства) стали менее эффективными. Отсутствие чувства личной безопасности на улицах или дома как следствие неспособности правоохранительных органов обеспечить порядок занимает на протяжении последних лет одну из самых верхних позиций в списке самых острых проблем, тревожащих людей: как правило, третью или четвертую по рангу после роста цен, социального неравенства и угрозы безработицы.
Опросы показывают также, что в стране, по мнению россиян, становится больше административного произвола и бюрократической волокиты. Укореняется в массовом сознании и представление о том, что государство не выполняет важнейшей своей функции в сфере экономики: устанавливать единые правила поведения экономических субъектов и следить за их соблюдением. Провозгласив курс на развитие рыночной экономики, власти тем самым косвенным образом взяли на себя обязательства по созданию соответствующих институтов и обеспечению гарантий их "добросовестности" и надежности. Однако реально государство устранилось и в этом отношении от своей ответственности, "кинув" людей, оказавшихся жертвами недобросовестных строителей, аферистов, социальных прожектеров. Никаких "извините", как и в случае сгоревших в 1992 году сбережений, не последовало, несмотря на все нефтяные прибыли.
Особый случай недовольства людей представляет собой война в Чечне и, что совершенно очевидно для большей части россиян, порожденные ею угрозы терроризма. Абсолютное большинство населения разочаровано ходом этой войны, жестокостью, проявляемой обеими сторонами, и настроено против ее продолжения (60-65% в последние два-три года). При том, что осенью 1999-го россияне бурно отреагировали на обещания будущего президента "замочить" всех мятежников и сепаратистов и, тем самым, вернуть нации чувство самоуважения. Хотя благодаря жесточайшей цензуре на информацию из Чечни в общественном мнении в последнее время укрепляется впечатление, что жизнь на Северном Кавказе постепенно нормализуется и входит в мирное русло, глубочайший след от этой войны будет ощущаться еще очень долгое время. Общая бесперспективность уже 13 лет идущих боевых действий вызывает чувство смутного протеста и готовности осудить на долгий срок тех, кто ответственен за их развязывание.
Однако на электоральном поведении недовольство людей пока не сказывается. Благодаря феномену Путина и с помощью разного рода махинаций с регистрацией партий или кандидатов в депутаты, использования административного произвола, запугивания, дискредитации либо прямого давления на избирателей и кандидатов Кремль обеспечил практически монопольное положение для партии власти. Но, добившись тактического успеха сомнительными средствами, она тем самым поставила под сомнение легитимность власти в целом, подорвав веру общества в справедливость и честность выборов. Поэтому ближнесрочный прогноз относительно успеха на предстоящих парламентских выборах "Единой России" дать нетрудно, но в ситуации возможного кризиса (а он рано или поздно наступит, поскольку мы имеем дело с явно неэффективной машиной управления), вся конструкция внезапно может оказаться очень хлипкой и неустойчивой. И это путинская администрация понимает. Именно поэтому действия властей характеризует такой навязчивый страх перед оранжевыми угрозами, несоразмерное использование силы по отношению к лимоновцам или участникам маршей несогласных. И эти страхи совершенно оправданы.
Есть известная логика в развитии политических процессов в стране. Стремясь обеспечить свои позиции и гарантировать себя от угрозы "оранжевой заразы", взрывов массового возмущения против коррумпированного и вороватого режима, как это было на Украине, Кремль стремится централизовать системы управления и контроля, стерилизовать очаги местной или групповой автономии, инициативы и самоуправления. Но тем самым он создает благоприятные условия для административного произвола, коррупции и беззакония, опосредованно через некоторое время бьющих по мелкому и среднему бизнесу, подавляя его развитие или загоняя его в тень. И, соответственно, подпитывая развращенную коррупцией бюрократию и полицию, в свою очередь провоцирующих ненависть населения к власти в целом.
Почему же в России не получилась "демократия"?
Просматривая материалы дискуссии, нельзя не обратить внимание на то, что мнения участников как-то незаметно сбиваются с анализа фактического положения вещей на рассуждения в духе политической нормативности (в России должно развиваться гражданское общество, президент должен сделать то-то и то-то), уводящие от понимания того, что есть. Мало кто (Е.Гонтмахер, Н.Розов и немногие другие) говорит о действующих институтах власти или отношениях людей в них, реальных повседневных интересах этих людей, понимании ими своих задач и целей. Между тем нет ничего более устойчивого, чем структура настоящего. Возможности изменения ограничены существующими институциональными рамками, которые представляют собой чрезвычайно плотные сцепления многослойных отношений. Это и механизмы отбора людей во власть, и ее отношения с другими влиятельными группами и институтами вне системы власти, и идеологические компоненты, равно как и качество человеческого состава правящей элиты и массовые установки и предпочтения населения. Институциональные структуры воплощают в себе спрессованные пласты исторической культуры общества, в данном случае советского и постсоветского российского социума, самоочевидные и потому трудно изменяемые правила социального взаимодействия.
Создать новое государство с чистого листа невозможно даже в случае военного поражения и катастрофы, как это было с другими тоталитарными режимами или императорской Японией, а также при создании советской зоны в Восточной Европе. То есть даже при самых оптимальных условиях ясного понимания сути и смысла необходимых преобразований, их глубины и последовательности, наличия средств и подготовленных людей требуется определенный переходный период, когда из части прежних управленческих структур и кадров выстраиваются промежуточные системы управления и поддержания социального порядка. Но это, повторяю, при самых благоприятных условиях, когда оккупационная администрация победителей могла взять на себя обеспечение социального мира, формирование новых государственных структур, причем не только административных, но и законодательных, судебных, структур публичности, образования и т.п. Это было очень трудно в послевоенных Германии, Италии, Японии, несколько легче - в посткоммунистической Восточной Европе. Потому что в последнем случае уже имелся определенный опыт действия, была массовая поддержка необходимых изменений со стороны населения, были мощные антисоветские настроения, социально-политические и общественные движения, направленные на сближение с Западной Европой, были институциональные структуры, обеспечивавшие поддержку реформаторам и смягчение социальной напряженности.
"Решительность" же российских реформаторов, до сих пор называющих себя "революционерами", а происшедшие изменения "революцией 90-х годов", была связана с неясностью того, что следовало делать в политическом плане при крайне слабой массовой поддержке изменений. Население не понимало смысла и плана реформ, относительно которых его и не старались просветить. Не было и результативной поддержки со стороны европейских институтов и организаций. Отсутствие давления реальных социальных движений и политических партий создавало для реформаторов некоторое пространство свободы воображения, но разработка и решение конкретных вопросов определялась интересами тех групп, в руках которых была хоть какая-то власть и которые были озабочены прежде всего тем, чтобы ее укрепить. . Поэтому и конституция при всем своем либерализме и декларативной демократичности оказалась вполне самодержавной, "персоналистической".
Зададимся вопросом: кто вообще хотел каких-то изменений в начале 1990-х, отдавая себе ясный отчет в том, какими именно они должны быть? Думаю, что это были очень немногочисленные группы, не пользовавшиеся особым влиянием и вниманием власти. Именно поэтому мало кто представлял себе, что и в каком объеме надо сделать, на какие социальные слои, структуры интересов и институты следует опереться для достижения намеченных целей. Еще меньше ясности было относительно того, какими ресурсами (управленческими, знаниевыми, технологическими, человеческими) располагали реформаторы, равно как и относительно механизмов изменений и механизмов консервации, сопротивления изменениям. Понятно, что при таких обстоятельствах интересы разных институтов и групп и их возможные реакции на перемены не учитывались, они просто не могли приниматься во внимание.
Верхушечный переворот, имевший место после августа 1991 года, был вызван разложением отдельных звеньев в системе тоталитарных институтов. Прежде всего - параличом высшего руководства КПСС, связанным с процессами децентрализации управления, крахом плановой экономики, деморализацией и слабостью армии и КГБ. Но ступор на высшем уровне управления не затрагивал самих советских институтов и кадрового состава. Значительная часть аппарата сохранилась, более того - перед номенклатурой второго и третьего эшелонов, как и в ситуации террора 1930-х, открылись перспективы вертикальной и горизонтальной мобильности, новые возможности обретения материальных ресурсов и источников влияния, что вызвало известный энтузиазм среди части бюрократии или, как минимум, отсутствие единства в сопротивлении переменам.
Распад СССР породил иллюзии "революции" 1991 года и, соответственно, веру в "объективную" предопределенность или детерминированность дальнейших преобразований в России - формирования саморегулирующейся рыночной экономики, становления демократии, развития институтов гражданского общества, сближения новой России с западными политическими и межгосударственными организациями. Но при этом среди различных транзитологическим схем предпочтение было отдано более простой, понятной и ассоциировавшейся с советским опытом "модернизации сверху", "авторитарной модернизации". Дескать, как силком загоняли в колхозы, так же силком можно загнать и в капитализм, поставив людей перед выбором, от которого нельзя уклониться: либо приспособиться к новым условиям, либо исчезнуть.
Недостаток "демократизма", авантюрная война в Чечне, верхушечный характер приватизации воспринимались социальной элитой того времени как неизбежные издержки переходного процесса, которые выправятся и компенсируются в дальнейшем преимуществами структурной трансформации экономики. Оглядываясь назад, понимаешь, что популярность "экономического детерминизма" была обусловлена не столько уровнем теоретических разработок у экономистов, сколько бедностью их представлений об устройстве общества и происходящих в нем процессах. "Экономический детерминизм" (как идеологию) в нынешних российских условиях правильнее было бы рассматривать как субъективное оправдание новой элиты своей зависимости от власти. Подобная идеология была изначально предназначена для легитимации "новой бюрократии", но не для выработки конкретной политической программы реформ.
Система и люди в системе
Институциональные обновления всегда обусловлены появлением нового человеческого или социального типа, нового образца отношений. Ни техника сама по себе, ни идеологические лозунги или программы не являются ни свидетельством, ни предпосылкой социального развития, структурного изменения общества. Только человек.
Пришедшие в правительство младореформаторы представляли собой действительно новый человеческий тип - и чиновников, и государственных деятелей. Однако, как выяснилось позже, ресурсы этого социального типа оказались чрезвычайно ограниченными - прежде всего в ценностно-моральном плане. Не прошло и нескольких лет, как "позолота стерлась, а свиная кожа осталась". Стране и миру были явлены подправленное либерализмом "государственничество", порожденный не реализовавшимися ожиданиями цинизм и готовность ради надежд на осуществление своих планов приспосабливаться (конечно, из высших соображений) к политическому руководству независимо от проводимого им политического курса. Ресурсы компетентности у новых чиновников были, разумеется, посерьезнее, чем у чиновничества старой школы. Но они не были настолько значительными, чтобы переломить характер управления или обеспечить рационализацию его технологии. Тем более в условиях борьбы политических группировок за властную монополию и последующем закреплении ее за одной из сторон.
Яснее всего это видно из характера и обстоятельств принятия новой конституции, которая должна была в первую очередь закрепить определенные тактические преимущества победившей группировки, прикрыв их торжественным изложением основ правового государства. Но как из одномоментной либерализации цен еще не вырастают структуры рыночной экономики, так и из провозглашения демократии еще не образуются правовое государство и сама демократия. И то, и другое возникает только из опыта регулирования конфликтов, мирного достижения компромиссов, взаимодействия различных групп интересов. В противном случае "демократия", "свободный рынок", "права человека", "средний класс" и другие понятия западного мира остаются лишь словами, используемыми для легитимации не соответствующей их смыслу реальности. В этом отношении российские околовластные политтехнологи и аналитики, заимствующие слова "оттуда", давно уже работают как настоящие фальшивомонетчики.
В идеологическом плане задачи российской верхушки (персонифицируемой Горбачевым, Ельциным, затем Путиным) заключались прежде всего в том, чтобы провести очередную фазу модернизации власти, не меняя самой системы, оставаясь в изоляции от западного мира, не допуская "вестернизации", усвоения основных ценностей современного общества, условно называемого "Западом". Риторика демократизации, возвращения к общечеловеческим ценностям должна была (по существу - на время) лишь нейтрализовать прежнюю имперскую идеологию советского превосходства и исключительности, хранимую наиболее консервативными группами во власти. Пришедшая к власти "демократическая" фракция расколовшейся советской номенклатуры во главе с Ельциным стремилась ослабить и оттеснить, если не удается убрать совсем, группировки и кланы старой советской административно-хозяйственной системы, представляемой коммунистами. Но после того как это произошло, очищенные от "коммунизма" идеологические ресурсы сохраненной властной организации были заново востребованы и актуализированы.
По всем государственным каналам ТВ опять зазвучала тухлая риторика патриотического воспитания, пошли разговоры об угрозах безопасности (уже правда, не "государственной", а "национальной"), необходимости защиты национальных интересов и отстаивания своих приоритетов. Идеологическая основа легитимности российской власти, как и прежде, заключается именно в сохранении изоляционизма, механизмов мобилизационного общества, поддержании в населении представлений об антироссийском враждебном окружении, заговоре западных стран против России, их постоянно повторяющихся усилиях ослабить ее, "поставить на колени", сделать зависимой от внешних сил. Во внутриполитическом плане подобным механизмам сохранения режима закрытого общества соответствовали изначально преобладавшие в элите представления, что экономические и социальные реформы, "рынок" и "демократия" не самоцель, а средства для восстановления ("возрождения") прежнего статуса "великой державы", создания более эффективного и сильного российского государства. Естественно, что при такой установке дальнейшие институциональные преобразования оказались заблокированными.
Введение "демократии" сверху посредством поспешного принятия новой конституции и проведения в 1993 году первых многопартийных выборов с наскоро созданными политическими партиями повлекло за собой явление, давно известное в политической науке. В ситуации социального разлома сама по себе "электоральная демократия" (без соответствующих культурных, моральных, человеческих оснований и институциональных рамок) в состоянии вывести на поверхность лишь самые массовые и распространенные, а потому - самые консервативные и темные слои, проявить и закрепить присущие им самые простые представления и интересы. В российском варианте - самые слабые и зависимые от государства группы, к менталитету которых изначально приспосабливались российские партии.
Нынешняя "многопартийность" в стране строилась по модулю самой власти, сверху вниз, т.е. представляла собой результат фрагментации прежней номенклатуры. Партии не вырастали из массовых движений, артикулирующих групповые интересы различных слоев населения, будь-то малоимущие или более вестернизированные и ресурсообеспеченные. Они не ставили поэтому своей задачей оформление аморфных сил, не стремились в публичных дискуссиях рационализировать собственные идеи или стремления масс. Электоральное поведение последних (полупринудительное по своему характеру, особенно в провинции) - это не участие в политике, не поддержка тех или иных "решений" или разделение социальной ответственности, а архаическое, по сути, одобрение той или иной фракции номенклатуры по причинам, совсем не обязательно связанным с материальными интересами или идейными соображениями. Партии могли играть роль популистских или идеологических "затравок" для символической идентификации (вроде футбольных команд) или служить каналом социального протеста, ярлыком для опознания населением социальных надежд. Но они не давали никакой стратегии политических действий, никаких конкретных программ реформ, которые люди могли бы оценивать и обсуждать. На всех прошедших выборах в Думу избирателю предлагалось лишь манифестировать свое принятие или непринятие власти и ее оппонентов, кандидатов во власть.
Роль "электоральной демократии" в кризисном, но не модернизированном обществе заключается не в обеспечении конкуренции политических лидеров и программ, а, напротив, в санкционировании авторитаризма, утратившего источники своей легитимации в миссионерской или экспансионистской идеологии и вынужденного поэтому ограничиваться задачами консервации режима. Признание "законности" власти и всей системы ее организации в подобной ситуации достигается двумя способами. Во-первых, обращением к эклектическому традиционализму, связующему постсоветское настоящее с советским прошлым и, в свою очередь, элементы советской великодержавности с дореволюционной "имперскостью". Плюс православие и ксенофобия в сочетании с изоляционизмом и национализмом. При этом период изменений дискредитируется квалификацией его как времени распада, нестабильности и кризиса. Во-вторых, насаждается атмосфера безальтернативности тех, кто у власти, осуществляется целенаправленная институциональная профилактика, упреждающая появление возможных оппонентов посредством их шельмования или уголовного преследования. Именно для этого и создается громоздкая система имитации демократии (псевдопарламент, псевдовыборы, псевдосуд, псевдосвободные СМИ, псевдопубличность с ее ток-шоу).
Выдвигая на первый план наименее модернизированные группы, характеризующиеся самым сильными государственно-патерналискими установками, "электоральная демократия" обеспечивает преимущество партии власти и созданным властью же "заместителям" партий вроде ЛДПР или "Родины", связывающих избыточные, т.е. грозящие выйти из-под контроля протестные настроения. При отсутствии альтернативных политических идей и, соответственно, политической конкуренции террор или масштабные репрессии в прежнем своем виде уже не нужны. Для удержания у власти правящей верхушки в демобилизованном обществе без сколько-нибудь четкой оппозиции более чем достаточно тех 30-35% голосов "контрольного пакета" партии власти для проведения ею любого нужного решения и установления своего доминирования или контроля над ключевыми органами государственного управления. "Электоральная демократия" - неизбежный элемент политической конструкции в условиях авторитарного режима или полицейского государства, поскольку, видимо, такая композиция социальных сил и иллюзий замедляет процесс разложения предшествующей тоталитарной системы.
То, за что держались оба постсоветских режима - и Ельцина, и Путина, был сам принцип номенклатурной организации государства, когда высшая власть конституирует структуру управления обществом, задавая ему такие параметры его организации, которые соответствовали бы интересам самой власти, ее самосохранению и воспроизводству. Практически это означает закрепление административного произвола и возведение его в принцип государственного строительства, при котором только исполнительная власть обладает "легальными" ресурсами и средствами управления и перераспределения, только она решает, что законно и незаконно, в том числе - и для нее самой. Других, альтернативных или параллельных источников контроля над государственной системой, кроме внутривластной конкуренции и латентной борьбы интересов разных приближенных к президенту клик или кланов так и не возникло. Собственно, это и есть политическое выражение неразделенности государства и общества.
Принципы же формирования правящих элит остались теми же, что и раньше: решающее значение имеют "кланы", партикуляристские группировки, структуры поддержки или лояльности вышестоящему начальнику. Кланы объединены вокруг одной символической фигуры авторитета, а их представители управляют нижележащими уровнями - без конкуренции и ответственности перед управляемыми, без разделения формальных компетенций и правомочий. От того, что в момент кризиса 1991-1993 годов высшей властью был кооптирован ряд лиц из нижележащих уровней номенклатуры, не имевших до того перспектив быстрой карьеры, суть организации общества и власти не изменилась. Дело не в том, "хорошие" или "плохие", компетентные или безграмотные люди подбираются вышестоящим начальством для своих целей, а в самом принципе неконкурентности, закрытости, а значит - бесконтрольности и безответственности бюрократии перед обществом.
Воссоздание централизованного, репрессивного, авторитарного стиля управления с необходимостью вызвало еще несколько следствий, обычно не связываемых непосредственно с путинской администрацией:
1. Заметное снижение человеческого качества персонала,
деградация деловой и служебной этики госслужащих, "освобождение" ее
от таких составляющих, как ответственность, дух служения делу, безличный пафос
компетентности и исполнительности;
2. Ослабление внешнего, вневедомственного контроля над деятельностью чиновников,
резкое усиление режима закрытости, ведомственной иерархичности, бюрократического
формализма и волокиты;
3. Склеротизация, как в позднее брежневское время, каналов вертикальной мобильности;
4. Быстрое распространение в этих условиях духа корпоративного разложения -
цинизма, коррупции, характерного для типа временщиков стремления к мгновенному
получению материальных выгод, использованию должностного положения для получения
приватных и незаконных доходов (приватизация государственных функций).
Вышестоящие инстанции нуждаются не только в послушных, пусть даже и эффективных и компетентных исполнителях, но и в кадрах, лишенных политических амбиций и потенций, что рано или поздно стерилизует любые критерии компетентности и исполнительности, как не соответствующие главным целям держателей ресурсов власти. Даже многие представители элиты, в том числе и самого чиновничества, в ходе опросов дают предельно жесткую и беспощадную оценку человеческому составу и материалу путинского аппарата управления: наиболее распространенная квалификация этого персонала - некомпетентная и циничная "шпана". Между тем именно такие наименее ощутимые вещи, как моральные основания и мотивы политической или государственной деятельности (солидарности, ответственности, лояльности) оказываются в длительной перспективе самыми важными характеристиками и параметрами государства как такового.
Итак, налицо инерция тоталитарных институтов, имморальность или даже аморальность элиты и аномичность населения, социальные формы которого съежились до самых узких сообществ неформальных групп и соответствующих гемайншафтных отношений - семьи и родственных связей, самое большее - полудружеских отношений коллег по работе или соседей, держащихся обязательствами взаимопомощи. При таких обстоятельствах ожидать появления каких-то сильных и значимых социальных движений, могущих быть институционализированными социальных образований не приходится. Весь массовый опыт отношений с внешними (формальными) структурами - властными, государственными, работодателем - предполагает навыки и представления о необходимости пассивной адаптации к внешнему давлению и государственному вымогательству или прессингу. Ждать отсюда медленного, но систематического развития гражданского самосознания, способности к солидарности или ценностному энтузиазму нельзя.
Перспективы российской государственности
Задачи ответственной национальной политики сегодня совершенно очевидны для значительной, хотя в абсолютном отношении не преобладающей, части элиты (но не населения!). Они заключаются в завершении модернизации страны, что в нашем случае означает прежде всего ликвидацию структур тоталитарной системы и проведение последовательного трансформирования государственной организации. Речь идет об обеспечении четкого разделения властей, создании их противовесов и сдержек, ликвидации права на вмешательство государства в деятельность СМИ (свобода общественного мнения) и общественных организаций, деэтатизации экономики, демилитаризации общественной жизни, децентрализации управления и стимулировании местного и регионального самоуправления, проведении принципа ответственности политиков за принимаемые решения и действия. Но в каких условиях престоит решать эти задачи? При каком состоянии общества и власти?
Возможности вестернизации российского общества сегодня ничтожны. Оно не просто не дозрело до принятия европейских ценностей и культуры, но и высказывает недвусмысленную и открытую антипатию этим ценностям, обусловленную прежде всего тем, что рецепция европейских ценностей предполагает другую антропологию, другой исторический фон, очень высокий, недостижимый для россиян уровень морали и самопонимания. С другой стороны, властвующие кланы и группировки заинтересованы в том, чтобы такое состояние общества законсервировать. Потому что именно это позволяет им осуществлять подмену национальных задач своими собственными материальными интересами. Именно это позволяет тем, кто находится у власти, мобилизовывать массовую поддержку самыми недостойными, с точки зрения этики, культуры, национального будущего, средствами. Я имею в виду эксплуатацию сознания хронического унижения человека в репрессивном государстве, ксенофобии, страха перед Западом и любыми "чужими", расстравливание комплекса ущемленности и обиды в массах, поддержание старых привычек и стереотипов рабского сознания населения, считающего что свой дракон, свой барин, хоть и дурак и самодур, но он свой, а потому лучше, понятней и ближе, чем неизвестный другой или другие, от которых неясно, чего ждать.
Архаические формы формирования солидарности посредством противопоставления "своих" и "чужих" в примитивном обществе действуют почти безотказно. На этом и строится вся риторика "суверенной демократии" и "особого пути", отличного от пути других стран, за которой стоит лишь одно: не смейте нас критиковать, не смейте совать нос в наши дела! Или, что то же самое, не трогайте легитимности действующего произвола и безобразия в России. За это мы вам дадим кусок трубы или нефти, ведь вы же такие же, как и мы, циничные и продажные твари, и нечего кичиться своим якобы каким-то особым превосходством по части приверженности демократии и соблюдения прав человека. И в этом, надо сказать, если иметь в виду не общественное мнение на Западе, а его ведущих политиков, очень много справедливого.
Как бы то ни было, с социологической точки зрения, возможные изменения в общественной жизни и в политике будут отмечены, прежде всего, появлением новых человеческих и социальных типов, опознаваемых в таком качестве: политиков, юристов, общественных деятелей. Дело не в том, будут ли они связаны или нет с советской школой приспособленчества, холуйства и сотрудничества с КГБ, прошли ли они школу номенклатуры или нет и чем мотивирован их приход в политику. Важно то, будут ли они иначе мотивированы, чем сегодняшние руководители государства.
В советской и родственной ей постсоветской системе мы имели и имеем дело с производным от нее одним и тем же типом руководителей, выступающим в разных вариациях. Сначала - с канцелярским аппаратным паханом, побеждающим во внутриклановой схватке, которого А.Зиновьев назвал когда-то "крысиным волком" [2].
Затем - с членами номенклатуры, заинтересованными в неизменности и консервативном воспроизводстве системы. Далее, на поздних ее стадиях, с "прагматиками", вынужденными расхлебывать последствия "застоя" и думать о том, как удержать систему от полного развала или даже, если удастся, конвертировать ее в нечто более эффективное. Когда же и это не удалось, отбор начал осуществляться среди представителей постсоветской номенклатуры (или "дефектных" представителей номенклатуры), способных по тем или иным биографическим обстоятельствам к вариативности, как, например, Ельцин, сочетавший личный антикоммунизм и советское номенклатурное барство. А после них настал черед представителей тех институциональных структур, которые могли "заморозить" начавшиеся трансформации системы, т.е. силовиков, могущих лишь удержать путем различных провокаций и репрессий распад старых структур.
Нет сомнения, что среди теперешних чиновников есть разные функциональные и человеческие типы. И старые управленцы, бюрократы в прежнем понимании этого слова, знающие технологию делопроизводства, порядок отношений с начальством. И новые трудоголики, как правило, перешедшие в структуры управления из науки или высшей школы и внесшие в работу несвойственный ранее этой среде идеализм и заинтересованность, компетентность, деловитость, преданность делу, а не лицам, начатки какой-то иной, чем раньше, этики бюрократии. И чекисты самого разного рода, от сторожевых псов власти до технократов или новых силовых предпринимателей. Но основной массив людей, находящихся сегодня у власти или ее обслуживающих, - довольно серая и коррумпированная публика, представляющая собой остатки третьего эшелона советской или постсоветской номенклатуры, временщики, люди без чувства долга, сознания коллективных интересов и национальной ценностей. Их подбор или смена ведутся очень осторожно, главным образом, исходя из интересов удержания власти, отсутствия опасности для вышестоящих инстанций. Предпочтение отдается тем, кто не имеет открытых амбиций или собственных интересов и готов, по крайней мере, на словах, служить начальству ради него самого. Поэтому их ресурс - это эклектическая куча старых символов, представлений, остатков мобилизационных лозунгов и механизмов, главным образом, основанных на комплексах враждебного окружения, ущемленности и неполноценности. Никаких самостоятельных проектов будущего здесь нет и в ближайшее (точнее - обозримое) время не предвидится.
Реальные изменения в государственном устройстве России, требуемые в соответствии с необходимостью решения массы внутренних проблем, будут обозначены появлением нового типа государственного чиновника - профессионально ответственного, компетентного, не коррумпированного, ориентирующегося на интересы дела, реализацию действительной, а не номинальной национальной политики. Его появление, если оно состоится, будет означать, что в обществе сложились и начали действовать другие, чем сегодня, механизмы отбора людей, что значимыми становятся другая мотивация бюрократического поведения, другие нормы функционирования государственной машины, в том числе - институционального контроля над бюрократической деятельностью. Последнее, в свою очередь, невозможно без складывания собственно политической сферы, предполагающей наличие условий выдвижения, обсуждения и конкуренции национальных целей и программ их реализации, равно как и появление нового типа политика, ответственного за осуществление принятых решений. Сам же этот тип, как показывает опыт кризисов власти в советской и постсоветской истории, может появиться только в ситуации кризиса власти, раскола верхушки, когда ни один из "временщиков" не рискнет принимать на себя ответственность за те или иные политические решения. В такой ситуации принудительного выбора решения возможны шаги к балансу сил и движение в сторону демократии и разделения властей. На появление же каких-то "варягов", способствующих развитию гражданского общества и усвоению либеральных ценностей, надеяться не стоит.
Однако сегодня развитие идет в противоположном направлении. В стратегическом смысле коррумпированное бесконтрольное чиновничество старается все плотнее сесть на ренту, будь-то рента неотменяемого статуса (выполнение управленческих и бюрократических функций только за особое вознаграждение) или рента монополии сырьевого экспорта. Неконтролируемая ничем и никем государственная бюрократия, освободившаяся от страха перед террором, перед контролем со стороны самостоятельного парламента или суда готова превратить государство в "халяву".
Все остальное нынешнюю властную команду мало волнует и способно вызывать у нее лишь циничную усмешку. Именно этот чиновный народ будет защищать всеми доступными средствами свое положение, демагогически предлагая всем консолидироваться вокруг власти и ее персонификатора, дабы "не раскачивать лодку". При таких обстоятельствах призыв "возродить" силу и прежнее величие государства означает призыв смириться с административным произволом, алчностью высшей бюрократии и господством временщиков. Или, говоря иначе, признать нормой конец политики и общественной жизни.
Нынешний полицейский авторитаризм - естественное проявление неразвитости гражданских структур или отсутствия реального разделения властей. Но в очень большой степени это еще и результат дискредитации постсоветского государства в глазах населения. Невозможность никакой самостоятельной и независимой от власти моральной или интеллектуальной позиции в российском обществе, возвращение практики административно-бюрократического насилия, цензуры, советского лицемерия непосредственно сказалось на типах селекции людей во власть и высшие слои руководства страной. Налицо не просто систематическое понижение интеллектуальных и моральных качеств, компетенции, ответственности и деловой этики. Путинский режим обладает способностью притягивать к себе худший по качеству человеческий материал из всего, что было доступным за последние 20 лет. И вовсе не случайно, думаю, рассуждения Иосифа Дискина о "конвенциях" и других принципах организации околовластных связей так напоминают мышление блатных.
Из такого порченого в человеческом плане вещества, которое осталось после десятилетий советской системы, построить что-то иное, чем "суверенную демократию", невозможно. Будущее страны на целые поколения вперед задано качествами "лейтенантов караульной службы", ставших политтехнологами, людей пустых и услужливых. Они, вместе с парамилитарными образованиями вроде штурмовиков "Молодой гвардии" или "наших", будут имитировать гражданское "общество", обеспечивая массовость демонстративной поддержки власти. Иного и быть не может, если учесть, что по существу российское общество выстроено из социального "самана".
Можно, конечно, подобно осторожному Дмитрию Тренину, верить в то, что утверждающаяся частная собственность в течение трех поколений преобразует нашу государственность. Но это всего лишь перенос опыта других стран на российскую почву, который пока выглядит безосновательным. Ведь сама по себе частная собственность не стала препятствием для утверждения тоталитарных режимов в Германии, Италии, Ираке, Иране.
Авторитаризм, опирающийся на полицейское государство, - явление в новейшей русской истории абсолютно не случайное. Помимо уже рассмотренных причин, следует назвать и качества самого населения. Длительное привыкание к репрессивному государству, державшему людей в хроническом состоянии крайне скудного достатка и поддерживавшему их лояльность великодержавной демагогией, не могло не породить определенные черты коллективного постсоветского характера, проявившиеся уже после того, как закончилась фаза перестроечного духовного подъема. Сегодня мы имеем дело со злобной и разочарованной, внутренне опустошенной страной, не верящей никому, в том числе и своим лидерам, настроенной по отношению к окружающему миру одновременно агрессивно, недоверчиво и завистливо. Если и можно говорить о сегодняшнем российском обществе как о целом, то это общество людей, не просто притерпевшихся к злу, но и внутренне принявших его как систему координат реальности и оправдывающих его даже с некоторой страстью циничного убеждения. Я не буду приводить в подтверждение соответствующие данные социологических опросов, медицинской или уголовной статистики. Это дело, возможно, другой работы. В данном случае мне важно лишь указать на неслучайность того, что страна выбирает себе в лидеры людей определенного морального и психологического склада.
Да, главным фактором, определяющим выбор страны, всегда является то, что представляют собой в человеческом плане руководящие фигуры власти. Вопрос лишь в том, как и почему они у власти оказываются. Никто ведь не заставлял членов Межрегиональной депутатской группы на первом съезде народных депутатов СССР выдвигать в лидеры секретаря обкома, а не, скажем, какого-то ученого или общественного деятеля - например, А.Сахарова или еще какого-то из круга тогдашних публичных фигур. Напротив, в странах Восточной Европы, даже в Прибалтике, в национальные лидеры, возглавлявшие процессы обновления, попадали не номенклатурные деятели, пусть даже отклонявшиеся от партийного стандарта, а носители иного символического капитала и иных моральных ресурсов - деятели культуры, науки, общественного сопротивления. Такие, как В.Гавел, В.Ландсбергис, Т.Мазовецкий Л.Валенса, Ж.Желев, Л.Мэри и другие. И это при том, что партийно-государственных прагматиков и "ренегатов"- коммунистов в Восточной Европе тоже было немало. Но они выполняли не символические функции, а инструментальные, подчиненные уже поставленным политическим целям.
В России же изначально все было иначе. И продолжалось иначе. Признание в 1999 году в качестве лидера нации недавнего руководителя тайной политической полиции в расчете на то, что этот человек может осуществить модернизацию страны, означало такое состояние коллективного недомыслия, некомпетентности, душевной неразвитости или полного равнодушия к общественным проблемам, которые не могут не наказываться исторически. Причем, подчеркну, имело место не просто пассивное согласие на этот выбор, но и его одобрение в надежде, что он обеспечит выход страны из кризиса, как полагало большинство тогдашних либералов и демократов. При том, что речь тогда шла не об изменении структуры государства, устройства государственного аппарата, не о реформировании бюрократической машины, а именно о выборе символической направленности национальной политики, ясно прочитываемой в тогдашних заявлениях будущего президента России. Речь шла о сочетании традиционализма (консервативной реакции) с задачами модернизации страны.
Нельзя сказать, что обещанное не выполняется. Гипертрофированным образом растет объем репрессивных возможностей государства. На новой, модернизированной, даже как бы рыночной основе происходит восстановление ресурсов централизованной власти. Государство получило новую легитимацию в реконструкции национальных традиций (сочетании православия, народности, самодержавия). Вместо парторгов или комиссаров мы получим в скором времени православных священников, а внутренняя ксенофобия и антизападничество заменят нам брежневскую идеологию "мирного сосуществования двух систем". Авторитаризм же переводить на русский язык уже и не нужно.
О характере дискуссии
Инициированная "Либеральной миссией" дискуссия о российской государственности вызывает противоречивые чувства. Нельзя не признать, что в наших условиях любые попытки рационализации ситуации путем общественного диалога, обмена мнениями о положении дел в стране чрезвычайно важны. Профессиональное сообщество политологов, социологов, экономистов, юристов, как и общество в целом, крайне нуждается в структурах публичности, которые могли бы дать стимул к рефлексии о происходящем, выявить среди экспертов зоны согласия в понимании характера российской государственности, ценностного консенсуса, общность интересов. В стране, где выжжены всякие начатки публичности, демократия должна начинаться с установки на понимание позиций и точек зрения, не совпадающих с твоими собственными.
Однако и в самом по себе высказывании множества общих и не связанных друг с другом мнений тоже нет особого смысла - тем более, если они принадлежат людям, утратившим уважение по причинам интеллектуальной недобросовестности или просто непорядочности. В том, что бывшие либералы или демократы в массовом порядке перешли под знамена партии власти, последовательно уничтожившей ростки свободы и демократии, нет ничего нового. Но, как мне кажется, едва ли имеет смысл всерьез рассматривать их аргументы, оправдывающие административный произвол.
Не понимаю, зачем полемизировать с людьми, специализирующимися на "порче" слов, на адаптации западноевропейских либеральных идей и понятий к условиям отечественной "суверенности". По существу речь идет о переводе их на язык российской консервативно-державной, геополитической риторики, наделении самих категорий несвойственным им контекстуальным значением с последующим использованием их (уже лишенных присущего им содержательного смысла) исключительно в целях дискредитации и деморализации оппонентов власти. В свое время портили монеты, сегодня портят слова. По большому счету это свидетельствует об исчерпанности, а не просто о дефиците идей или интеллектуальных ресурсов у нынешних "работников агитпропа" при администрации президента. Поэтому я и не вижу большого смысла обсуждать какие-то проблемы с С.Марковым, А.Чадаевым, М.Юрьевым или И.Дискиным. По меньшей мере это непродуктивно, хотя критерий продуктивности в данном случае вовсе не главный.
Беспринципную апологию нынешнего режима можно, конечно, принимать во внимание в качестве эмпирических фактов идеологического сознания, но она не заслуживает того, чтобы к ней относиться так же, как к аргументам других участников обсуждения. Как мне представляется, ложное чувство "справедливости", требование "равновесия сил", "права на слово", "открытости" обсуждения любых проблем стерелизовало аналитический потенциал разбора проблемных вопросов и превратило дискуссию во что-то похожее на спор о ценностях. И при этом "право на слово" было распространено на людей, у многих из которых нет ни ценностей, ни убеждений, ни собственных взглядов на происходящее в России. Я не уверен, что возможен содержательный обмен мнениями по поводу конституционного устройства правового государства с Гитлером, пришедшим к власти вполне легально, или о демократии и законности с Вышинским. Почему же он возможен тогда с совсем мелкими разновидностями данного сорта людей? Соединение в одном флаконе участников разного типа придает происходящему в лучшем случае гротескный вид свифтовской академии, говорильни, чего-то вроде просроченной "Московской трибуны". В худшем же случае выглядит спуском интеллигентского "пара" ("а Васька слушает да ест").
Без определенного ценностного консенсуса обсуждать вопросы государственного устройства и целей проводимой политики сегодня уже не представляется возможным. Другое дело - есть ли такой консенсус в российском экспертном сообществе?
Именно из-за неясности ценностных и содержательных рамок обсуждаемой темы дискуссия постоянно сбивается на митинговый тон. Обсуждение предметных и деловых вопросов подменяется идеологическими декларациями, фантастическими историософскими или геополитическими видениями. В них российская государственность приобретает черты внеисторической и почти космической сущности: оно как бы одно и то же и в ХУ1 веке, и в ХУШ-м, и в Х1Х-м, и в ХХ-м. В таких разговорах государство теряет свою конкретную институциональную определенность и начинает вести себя как субъект интересов, потребностей, обид. Подобная риторика обычно скрывает вполне определенные клановые или корпоративные интересы тех, кто стоит у власти или хотел бы быть допущенным к обеспечению ее идеологического прикрытия.
Начало дискуссии, положенное статьей М.Краснова, пробудило ожидание соответствующего продолжения. И такое продолжение последовало в множестве глубоких наблюдений и соображений ряда участников. Однако отсутствие развития основной линии в выступлениях других, неуместность появления третьих, общая нефокусированность проблематики вызывали усиливающееся разочарование. Дискуссия, начатая как обсуждение того, что есть, продолжалась выступлениями о том, что должно быть. Этот "профетизм", если воспользоваться выражением Макса Вебера, во многих случаях замещал трезвый анализ реальности. Разбор фактических особенностей организации государственной власти в России подменялся выражением веры или долженствования, рассуждениями о том, как все должно быть устроено и что должен делать Путин, если он хочет... Но почему вдруг он или его окружение должны хотеть того, чего он или "они" до сих пор не просто не делали, а делали прямо противоположное тому, что, по мнению высокоученых экспертов, должны бы делать, остается за рамками обсуждения.
Сегодня потенциал тех социальных групп или сил, которые хотели бы изменений политического режима, очень ограничен. Ни массы, ни так называемые "элиты" не способны не то что бороться за иную модель государственного устройства, но даже хотеть чего-то иного, нежели нынешний путинский режим. У образованных классов в российском обществе нет ни ценностных представлений, ни воли, ни соответствующих интересов, которые могли бы стимулировать изменения в структуре политической организации России.
А так - "все хорошо, прекрасная маркиза, дела идут как никогда..."
_________________________________________________
1 Данные майского опроса 2007 года. Среди причин, препятствующих экономическому росту в стране, россияне на первое место ставят "коррупцию, расхищение государственных средств" (50%). За этим следует "сопротивление чиновников, бюрократии" (34%), "неисполнение на местах принятых законов, указов" (30%), "слабость власти" (26%) и лишь затем - "люди разучились работать" (23%). Общественное мнение -2006. М., Левада-центр, 2006, с.37.
2 А.Зиновьев.
Зияющие высоты. Лозанна, Age d'homme, 1976.
________________________________________________
Юрий ПИВОВАРОВ,
академик РАН, директор ИНИОН РАН
"БУДУЩЕЕ КАЖДЫЙ РАЗ ИДЕТ В ИНУЮ, НЕЖЕЛИ БЫЛО ПРЕДСКАЗАНО, СТОРОНУ…"
О МЕТОДОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ
О РУССКОМ ПРАВЕ
О РУССКОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПЕРЕХОД К ВЛАСТНОЙ ПЛАЗМЕ
ПЕРЕХОД К ВЛАСТНОЙ ПЛАЗМЕ
Скажу сразу: я не очень верю в прогнозирование социальных процессов. Думаю, что они во многих отношениях просто непознаваемы, а следовательно, и непредсказуемы. Конечно, определенное предвидение будущих событий возможно, "пережимать" здесь не стоит, но большинство значимых событий истории непредсказуемы. Однако практически все участники нашей дискуссии так или иначе пытается спрогнозировать будущее. Это вообще характерная черта российского социального дискурса. В нашем обществе принято рассуждать о том, что было, что есть и что будет: было так, сейчас вот эдак, а будет таким вот образом. То есть все полагают, что знают, как было, как есть и как будет. А я вот не знаю. Я не знаю, как было, как есть и как будет. Это не кокетство, не игра в агностицизм, я просто исхожу из того, что даже прошлое мы - профессионалы - знаем плохо, что и выясняется каждый раз, когда доходит до дела.
Давно уже известно, что современники обычно не в состоянии понять существа происходящего. Кто мог догадаться в 1913 году о том, что случится через пять лет в России? Да никто, ни один человек. А кто предвидел в 1983-м события, происшедшие в 1986-м или в 1989-м? Тем не менее, многие участники дискуссии точно знают, что будет. Но ведь каждый день, буквально каждый рождаются новые явления, происходят новые события, которые порождают новую реальность, а потому возможность экстраполяции нашего старого опыта крайне ограничена. Нельзя экстраполировать прошлое на будущее. И настоящее тоже, даже если человек считает, что он его знает.
Речь идет не только об особенности "русского" будущего, но и любого другого. Будущее идет совершенно в иную, нежели было предсказано, сторону. Разумеется, есть коридор возможностей, но - тем не менее…
Это - своего рода преамбула, поясняющая мои умонастроения, сформировавшиеся на основании анализа социального опыта, который подсказывает, что история нас каждый раз обманывает, даже если мы, казалось бы, внимательно и профессионально отслеживаем ее повороты. Имею в виду не только себя лично, но и гораздо более просвещенных, умных, глубоких людей. Я десятилетия профессионально занимаюсь историей русской мысли и могу сказать: на самом деле она ничему научить не может. Была группа гениальных мыслителей, ими был сформулирован ряд гениальных идей и догадок. Но можем ли мы сегодня сказать: у нас есть интеллектуальное наследие, позволяющее нам ясно понимать существо настоящего и будущего? Не знаю, не уверен. И это, повторю, касается не только России.
О методологии изучения истории и прогнозирования социальных процессов
Конечно, любые теоретические модели, претендующие на описание истории, стремятся выявить в ней некие инварианты, что является необходимым элементом любого мысленного эксперимента. Но я не склонен сейчас углубляться в столь заоблачные теоретические сферы, а хочу поговорить о различных подходах к истории. К примеру: мы знаем, какую громадную роль в русской истории ХХ века сыграли большевики, они попросту изменили нашу историческую траекторию. Но в реальной ситуации того времени большевики представляли собою ничтожнейшую часть русского общества и играли в его движении столь же ничтожнейшую роль. Так как же все это описывать? Исходя из "картинки" начала века или всего века? В обоих случаях мы оказываемся в противоречивом положении. Действительно, с одной стороны, эти полууголовные, полуобразованные типы для будущего двадцатого века в России и во всем мире были в сто раз важнее, чем все прочие российские политики-интеллектуалы, а маловразумительные писания их вождя - важнее, чем все дискуссии кадетов-октябристов относительно того, какой быть русской конституции или Государственной думе. С другой стороны, в начале столетия они действительно были маргиналами…
Это так же, как в 1920 году в Германии, где в Национал-социалистической рабочей партии, в которую вступил Гитлер, было семь или восемь человек. А вместе с тем в Германии в тот момент были огромные партии - католическая партия центра, социал-демократическая и другие. Оказалось же, что история этой партии для ближайшего будущего человечества важнее, чем судьба СДПГ. Но нельзя же, описывая историю Веймарской республики, сводить ее к деятельности национал-социалистов! Вот, собственно, что я хочу сказать. Иными словами, изучая историю, следует постоянно менять оптику наблюдения, и не только оптику менять, но и вообще использовать различные исследовательские инструменты, в зависимости от масштабов и задач исследования. И это касается анализа не только прошлого, но и будущего. Ведь когда мы задумываемся о будущем, мы всё равно, хотим того или не хотим, исходим из настоящего и того, в какой мере настоящее обусловлено прошлым.
Ситуация здесь очень близка к той, что видится через призму теории бифуркации, когда некое течение событий приводит к особой сингулярной точке, в которой малые возмущения оказываются принципиально существенными для определения будущей траектории движения системы в целом. Я, кстати, как и многие другие исследователи, пользовался этой терминологией, формулируя (вместе с А.Фурсовым) представления о Русской Системе и Русской Власти. Однако все эти метафоры, взятые из других наук (не наук о человеке), имеют весьма ограниченную и довольно сомнительную, условную ценность. Развивавшаяся Пригожиным методология не учитывает самого главного - свободы воли. Пригожин, с его темой хаоса и бифуркации, описывал мир, где нет свободы воли. Но человеческая история тем и отличается от прочего, что главная тема в ней - свобода воли.
С детства и по сегодняшний день я твердо знаю - всё решает именно свобода воли. 25 октября 1917 года история могла пойти совершенно по другому пути. В ноябре 1918-го в Берлине генерал Людендорф лег за пулеметы и остановил немецких большевиков, в результате чего немецкая революция пошла по социал-демократическому, а не большевистскому варианту. В октябре 1941 года немцы могли взять Москву, и история сложилась бы иначе. Свобода воли - это то, как люди поведут себя в данный момент, напрягутся или не напрягутся, решатся умирать и стоять до конца или не решатся. В истории нет железных закономерностей. И чем больше я живу, чем больше читаю и думаю, тем яснее вижу, что история - это результат каждодневного людского делания. И тем сложнее наша ситуация, ситуация людей, пытающихся осмыслить историю.
Я долгое время не мог понять Ясперса, который в одной из своих книг писал, что историк должен очень деликатно обращаться с фактами и всегда исходить из презумпции, что есть тайна истории. При этом Ясперс - глубокий и серьезный философ. Тайна истории - это, конечно, метафора, но смысл ее в том, что огромная часть наблюдаемой нами исторической действительности не поддается строгому осмыслению - возможности исторической науки имеют свои ограничения. Но у человечества есть другие способы познания. Например, Виктор Шкловский когда-то сказал: нет правды о цветах, но есть наука ботаника. Первое впечатление: Шкловский - гений. Но правда о цветах все-таки есть, прочтите Афанасия Фета. Или Льва Николаевича Толстого: в "Войне и мире" есть правда и о цветах, и о многом другом. Но это - не наука. Оставаясь же в рамках научного подхода к истории, мы должны помнить об ограниченности его возможностей.
Поэтому я не то что бы скептически, но с некоторым недоверием отношусь к коллегам, рисующим страшный мир будущего, как делает, например, Михаил Юрьев - яркий, талантливый, видимо, человек. То, что он предвосхищает, может быть, случится, а может быть, нет. Я не знаю. И я абсолютно равнодушен к такого рода размышлениям. К этому склоняет меня мой жизненный опыт.
О национальной политической традиции
Вернемся теперь к основной теме нашей дискуссии. Сегодняшняя российская государственность в полной мере традиционна, как и французская, польская, немецкая, итальянская и любая другая. Даже украинская государственность - такая, как она есть (если она есть), - тоже традиционная. И российская государственность в этом смысле ничем от прочих не отличается. А у большинства участников нашей дискуссии я вижу совсем другое - стремление во что бы то ни стало подчеркнуть как новизну нашей постсоветской государственности, так и ее производность от западных образцов. Оспорю обе эти позиции.
Во-первых, я в нашей сегодняшней государственности ничего принципиально нового не вижу. А во-вторых, бывая в Париже, я ни разу не слышал вопроса: господин Пивоваров, а что в нашей французской политической культуре и государственности вы видите заимствованного, усвоенного из русского опыта? И какое русское влияние на нижнесаксонскую государственность в Ганновере вы могли бы отметить? Меня никто на Западе никогда о подобном не спрашивал.
Почему же у нас возникают такого рода вопросы? Я, конечно, отчасти здесь лицемерю и лукавлю, поскольку знаю причину их возникновения. И, тем не менее, настаиваю на том, что сама постановка такого рода вопросов уже задаёт некий идеологический камертон. Она предполагает, как нечто самоочевидное, производность нашего государственного развития от зарубежных моделей. И даже такой тонкий юрист, как Михаил Краснов, говоря о нашей Конституции, опять указывает в качестве образцов ее конструирования и источников заимствований на другие, западные конституции - американскую, французскую… Но верен ли такой подход? Что заимствуется: чужое содержание или всего лишь чужая форма для своего содержания?
Традиция российской политической мысли и политической практики весьма своеобразна. Важным элементом этой традиции оказывается использование заимствованных западных форм в качестве своего рода "прикида". Даже советская государственность, казалось бы, в наибольшей степени оригинальная и "самобытная", противостоящая западным образцам (прежде всего "самобытна" сама идея советов, хотя и она возникла не спонтанно, а, как отмечал евразиец Н.Алексеев, разрабатывалась по крайней мере еще М.Сперанским), - даже она была одета в этот западный "прикид".
Таково коренное своеобразие нашей политической традиции. Русская политическая мысль "сидит на игле" политической мысли Запада. Все русские идеологические течения рождаются по одному и тому же алгоритму: появляется на Западе романтизм и историческая школа права - у нас рождается славянофильство, появляется там какое-нибудь значимое идейное течение - у нас рождается его своеобразно перетолкованный аналог…
То есть в основе того, что русские придумывают сами, обнаруживается идейная инъекция с Запада. Была, скажем, инъекция марксизма, и - появляется Ульянов… Примеров множество, они известны. Русская государственность давным-давно развивается именно таким образом, что повелось еще задолго до Петра. Причем это - не инстинкт и не случайность, а сознательный выбор. Известно, например, что Соборное уложение 1649 года сознательно делалось с учетом польско-литовских статутов. Да и Лжедмитрий I совершенно сознательно привнес в Московию западные формы. И даже Иван Грозный был во многих отношениях "западник".
Учитывая эту традицию, необходимо заканчивать истерику по поводу новой государственности и новых институциональных форм. О каком "переучреждении государства" (формула Александра Аузана) может идти речь? Это примерно то же самое, как если бы человек, которому 75 лет, проснулся и решил: начинаю жизнь заново. Правда, сейчас очень модно молодиться в 75 лет, но моя мысль, надеюсь, понятна. У русской культуры и русского государства за плечами больше тысячи лет существования. Давным-давно сформировались их фундаментальные "параметры". Как митрополит Илларион в середине XI-го века в своем "Слове о законе и благодати" говорил о Правде, так с тех пор тема Правды в илларионовском смысле уже почти тысячу лет превалирует в российском политическом дискурсе. А все последующие заимствования - это "прикид".
Каково же содержание русской власти при любых ее формах? Идеалтипически русская власть есть власть насилия. Меня часто критикуют за этот тезис, за абсолютизацию роли насилия в природе русской власти, за отрицание договорных, конвенциональных начал. Но я говорю об идеальном типе русской власти; в реальной жизни и договоров, и конвенций навалом. В.Ключевский замечательно всё это описал. Если же считать, что переговоры - эссенция европейской власти, с чем я соглашусь (в свое время диссертацию написал на эту тему на немецком материале, не самом лучшем в данном отношении), то эссенцией русской власти, безусловно, по-прежнему является насилие.
О русском праве
А теперь - о праве. С моей точки зрения, эта тема ключевая. Но она именно потому и недооценена русской мыслью, что русские до сих пор не догадались, что у них - свое, особенное право. Впрочем, тот же Н.Карамзин говорил в своей "Записке о древней и новой России" в начале XIX-го века: не ищите законы и процедуры в римском праве, поройтесь лучше в собственной истории. Но его призыв не был услышан.
Между тем именно этим как раз и занималась в начале XIX-го века школа исторического права в Германии. В то время немцы искали свой особый путь (как это делаем мы сегодня), они тогда тоже не хотели считать себя европейцами, признавать безальтернативность римской правовой традиции. Зачем, мол, нам это римское право, когда у нас есть свое германское? Но поиски истоков германского права в немецкой истории успехом не увенчались; более того, Гитлер и нацизм в определенном смысле оказались поздней репликой этих тенденций. Но, вместе с тем, разве правовые системы Англии и Соединенных Штатов Америки только на римском праве построены? Нет, в их основе common law, общее право, прецедентное право, когда судья творит практику правосудия.
Так вот, в России тоже есть своя правовая традиция. Правда, с эпохи Петра Великого она "вписана" в систему европейского континентального права, которая господствует от города Бреста (что в Бретани) до города Токио. Это, конечно, такой же "прикид", неорганичный сущности русской традиции, как и все остальное, но к нему мы уже привыкли - несмотря на то, что почти для всех очевидна его неработоспособность в российских условиях. Владимир Пастухов в "Полисе" (2007, № 3) опубликовал прекрасную статью о двух системах права, сосуществующих в современной России. Одна - официальная, включающая все эти конституции, законы и так далее, по которым никто не живет; она нужна лишь для внешнего вида, для фасада, рекламы. Другая же формируется мелкими ведомственными актами, подзаконными документами, которые чиновник средней руки использует, как хочет (хошь, посажу, а хошь - не посажу, хошь, взятку возьму, а хошь - не возьму). Но я веду речь о несколько ином праве. О том, что в русской исторической жизни были какие-то свои правовые институты, которые лежали в основе русского общества.
Во-первых, хочу напомнить о судах присяжных, которые возникли в России не после судебной реформы 1864-го года, но еще в XVI-м веке существовали их прообразы - губные суды с губными старостами. Во-вторых, существовало право, которое, как почти всё здесь, порождалось властью. Так было и так есть. Когда меня спрашивают об изменениях в современной русской цивилизации, я отвечаю, что всё изменилось, но только сама она осталась властецентричной. Я придумал этот термин для своего собственного употребления: европейская цивилизация антропоцентричная, человекоцентричная. А наша - властецентричная. Итак, русское право - это право, которое порождается властью. И смысл его - обслуживание властью самой себя, своих собственных нужд. Задайтесь вопросом: какое право в России главное? По моему мнению, крепостное, право закрепощения людей. Это главное право. Но зачем оно?
Всё просто и обусловлено потребностями практической жизни. Еще в конце XV века Ивану III понадобилась большая армия, которая не отсиживалась бы, как прежние русские дружины, в крепостях, а могла бы оперативно контролировать пространства большого государства. Тогда для этого нужна была конница, нужно было создать сословие конников. За неимением достаточного количества денег на его содержание, решение нашли в условном землепользовании и в создании на его основе дворянского сословия. Поэтому первое сословие, которое возникло в России (со всеми его обязанностями), было сословие дворян. Его-то первым и закрепостили, т.е. заставили служить и лишили права выбора. Только государева служба, и все. Потом, когда крестьяне, не желая работать на старых и новых хозяев, стали разбегаться, закрепостили крестьян. Затем очередь дошла и до горожан: Соборное уложение 1649 года закрепостило посадских людей.
Позднее крепостное право было закреплено в законах. В рамках возникших своего рода крепостных корпораций ее членам полагались особые обязанности. Но при этом русское право никогда, даже по своей интенции, не предполагало свободу. Оно наделяло обязанностями, но не давало прав.
Так вот: русское право с самого своего начала - крепостное, запретительное, "обязывающее". И порожденное властью. Что касается прав и свобод, то это такой же "прикид", как и разделение властей, борьба партий и многое другое.
О русской собственности
Я подчеркиваю: суть власти осталась неизменной, а право как было орудием в руках власти, так им и осталось. На этой основе формировалась и русская собственность. Где и на что возникает право частной собственности? Не роясь в исторических далях каменного века, укажу на Европу, на ее сферу земельных отношений. Народу было много, а земли мало. Частная собственность стала решением этой проблемы.
В России же была обратная ситуация. Земли - много, народу мало. В частной собственности на землю просто не было надобности. В русской истории тема собственности вообще не играла большой роли. Когда же всерьез возник вопрос о собственности в России? С появлением перенаселения в рамках передельной общины, ставшего результатом прежде всего демографического взрыва, т.е. ко второй половине XIX века. Вот тут и пришла потребность в праве собственности на землю, появились реформаторы - Витте, Столыпин, надо было принимать жесткие политические решения. Столыпин предложил: хотят выйти из общины, пусть выходят, земли не хватает - пусть едут в Сибирь, целину осваивают. Но чем всё это закончилось? Столыпина убрали, потом война началась, а в 1917-18 годах произошло важнейшее событие русской истории - общинная революция: община сожрала всех этих собственников, всех, кто покусился на основы русской власти.
Я не пытаюсь судить, плохо это или хорошо, я не оцениваю. Субъективно мне община нравится, я считаю, что эсеры в идеале были правы, я сторонник Чаянова, Кондратьева, славянофилов, настаивающих на необходимости развития форм русской социальности. Василий Белов неплохо описал это в романе "Кануны", показав с любовью и, думаю, достаточно аутентично вологодскую деревню, - каким живым, способным к саморазвитию организмом была община в период, когда помещики уже ушли, а коммунисты еще до нее не добрались.
Но тяга к собственности, видимо, заключена в социальной природе человека. Скажем: мой отец имел нечто, что я тоже хочу иметь и не хочу отдавать другому. Это, если угодно, тема трансляции имущества. Один мудрый человек говорил мне еще в 1970 годы: коммунизм, советская власть неизбежно и скоро падут потому, что они лишены двух центральных оснований любой жизнеспособной политической системы, любой культуры, любой цивилизации - правильной трансляции власти и правильной трансляции собственности. Он говорил мне: посмотри, директор завода в Тольятти, Каданников, всё сделал для этого завода как, по сути, его владелец, но когда он умрет, все достанется не его сыну или племяннику, а какому-то новому начальнику. И потому рано или поздно произойдет революция "красных директоров", которые захотят все это приватизировать. Здесь - слабое место коммунистической доктрины: она утверждала, что будет общенародная собственность, но не учла, что управляющие общенародной собственностью в конце концов решатся на ее приватизацию.
Однако прежде в России не возникало частной собственности именно потому, что изначально она не возникла как поземельная собственность. Но была и еще одна причина - скудость ресурсов на огромных пространствах. Об этом многие писали, и я не хочу повторяться. Упомяну лишь академика Леонида Милова, историка, автора книги о великорусском пахаре, описавшем первую в истории человечества попытку построить культуру и цивилизацию в северных скудных широтах. Милов показывает, что здесь просто не оставалось прибавочного продукта, и нужна была регулирующая инстанция, та самая власть, которая распределяла бы имеющиеся скудные ресурсы ("карточная система").
И что бы ни говорили сторонники рыночной экономики и либеральных преобразований, я убежден в закономерности распределительной системы в подобных условиях. Как возможен свободный рынок при такой географии и таком климате? Уже Витте с Александром III понимали, что, построив железную дорогу из Варшавы до Владивостока, билеты на поездки по ней по рыночной цене продавать нельзя.
У нас власть и собственность неразделимо связаны. Исторически
то, что мы называем властью, всегда контролировало то, что мы называем собственностью.
Бывают периоды, когда они отчасти расходятся. Для меня борьба "Путин -
Ходорковский" - это борьба "Путин-власть - Ходорковский-собственность".
Это борьба, в которой обе стороны играли вполне традиционнее роли. И власть,
как ей и положено в России, показала, кто здесь есть кто (или, в терминах Русской
Системы, что здесь есть субстанция, а что - функция). И по сей день Русская
Система воспроизводится практически в каждом фрагменте русской жизни. То, что
я называю Русской Системой, мой любимый философ С.Франк называл "Мы - мировоззрение",
которое пронизывает каждую нашу клеточку. Поэтому и те самые "красные директора",
и те самые Чубайсы и Гайдары не смогли развернуть Россию на иной путь.
Это, безусловно, не значит, что всё происходит "автоматически", я
настаиваю на наличии "свободы воли", но тысячелетняя традиция задает
навык и коридор возможностей. Поэтому люди, которые приватизировали в начале
1990 годов бывшее имущество Советского Союза и вроде бы создавали частную собственность,
создавали ее по своему, привычному им образу и подобию, будучи сами носителями
этого "русского" начала. Мы все - Русская Система, в которой нерасчлененность
власти и собственности - норма.
Переход к властной плазме
Классическая Русская Система в ее самодержавной форме умерла в 1917 году. И возникло то, что мы с А.Фурсовым назвали "властепопуляцией". Это - когда у власти оказывается именно популяция, когда "кухарка управляет государством", когда торжествует принцип "мы", т.е. принцип насилия всех над каждым. Но в начале 1990-х и "властепопуляции" приходит конец. Русская Система снова трансформируется, порождая "властную плазму".
Этот термин мне "подсказал" Ральф Дарендорф, известный немецкий и британский социолог и политолог. Создавая теорию социального конфликта (во многом в противовес марксизму), он утверждал: внимание следует концентрировать не на причинах, а на формах конфликта. Ни в коем случае вообще нельзя посягать на причины конфликтов, так как конфликты суть одна из форм существования общества. Конфликты должны сохраняться. Но поскольку они все же опасны для социальной стабильности и устойчивости, их необходимо поместить в некую среду, которая не поглотит их окончательно, но минимизирует разрушительную силу. Среду, где конфликты локализуются и перестают носить интенсивный характер. Основной элемент этой среды или "социальной плазмы" - обширный средний класс. Главные характеристики - сохранение определенного социального неравенства, наличие различных интересов и воззрений. Важнейшие организационные принципы - институты и процедуры по урегулированию конфликтов, внятные правила игры для всех.
В известном смысле, современная Россия столкнулась со схожими проблемами, т.е. такими, которые вызывают необходимость "социальной инженерии" дарендорфского типа. Если коммунистический режим был ориентирован на уничтожение причин конфликта (хотя, как мы знаем, на последней стадии своей эволюции был вынужден смириться с фактом их неизбывности), то нынешний уже не может и не хочет бороться с конфликтами как таковыми. Он вынужден существовать в условиях острых общественных противоречий. И потому обязан их минимизировать.
Путинские новации ("партия власти" и управляемая партийная система в целом, так называемое укрепление властной вертикали, ослабление полномочий субъектов федерации и многое другое, что хорошо известно) и есть создание русской "плазмы", в которой конфликты будут протекать, но не разрушать общество. Только если на Западе эта плазма - социальная, то здесь - властная. На смену "властепопуляции" приходит "властная плазма". "Властепопуляция", о чем я не раз писал, была сочетанием абсолютной власти и абсолютного бесправия, что строилось на принципах бесконфликтности и превентивного уничтожения причин конфликтов. "Властная плазма" есть принятие конфликта вовнутрь, в себя, где происходит его внутреннее сгорание и, одновременно, энергетическая подпитка.
Но если "социальная плазма" функционирует, как уже отмечалось, с помощью четких процедур и обязательных для всех правил игры, то "властная плазма" строится на основе коррупции. Именно коррупционный механизм, механизм передела финансовых и материальных средств является важнейшим измерением "властной плазмы". В определенном смысле коррупция и есть плазма, в которой протекают конфликты-переделы. Коррупция - это среда, в которой развертывает себя в пространстве и времени "государство".
Наша "властная плазма" - нечто необычное для Русской Системы: впервые в отечественной истории на уровне власти произошел отказ от стремления к бесконфликтности. И Ельцин, и Путин согласились с тем, что конфликт в обществе неизбежен и "преодолевать" его не нужно. Но необходимо создавать возможности регулирования. Формируется многочисленный властвующий слой людей, пришедший на смену номенклатуре. Он по своему назначению - быть стабилизитором социума - аналог западного среднего класса.
Есть ли предел роста у этой властной плазмы? Я когда-то выдвинул идею, согласно которой Русская Система способна справиться лишь с определенным уровнем вещественной, материальной субстанции, накопленной в обществе, т.е. может её перемолоть и освоить. Это близко к тому, что Симон Кордонский говорит о ресурсах. Но каков основной ресурс властной плазмы? Ее ресурс - это монопольное право на посредничество в бесконечном каждодневном переделе ресурсов разнообразными агентами нашего общества. А побочным следствием здесь оказывается вся прочая деятельность, в том числе и та, что традиционно вменяется государственным органам.
Например, что такое в России строительство дома? Это способ "попилить", освоить какой-то ресурс, какие-то деньги, а побочным результатом может оказаться построенный новый дом. А может и не оказаться (долгострой). Или дом будет построен, но окажется плохим. Иными словами, в России производство есть побочный продукт нашей основной деятельности. Вот боролись с американской гегемонией, и вдруг неожиданно в 1970 годах у нас появляется электроника. Ничего похожего на то, как она развивалась на Западе или в Японии. Для чего создали ИНИОН в 1970-х? Потому что испугались 1968 года и решили: пусть лучше интеллигенция книжки полузапрещенные будет читать, чем о свободе думать. Пусть такие, как С.Аверинцев и Г.Дилигенский, пишут рефераты и делают переводы. А в качестве побочного результата возникла общественная наука в СССР.
Я уже не говорю про сегодняшние побочные продукты властной плазмы. Но так происходит всегда. Чем, например, был НЭП? Изучая его историю, обнаруживаешь, что за всеми наиболее интересными нэповскими проектами стояли чекисты и партийные работники, которые отмывали свои деньги, которые они награбили во время революции. Но возле всего этого кормилась российская культура 1920 годов.
Не могу не добавить еще один штрих к образу властной плазмы. Я имею в виду интереснейшую тему преемничества власти. Вообще эта тема антиконституционна. Ведь по Основному закону президента выбирают. Однако общество смирилось с идеей, что нынешний президент "выберет" для нас будущего президента. Впрочем, доктор исторических наук Андрей Юрьевич Шутов 29 мая 2007 года на заседании диссертационного совета факультета госуправления МГУ сказал: речь следует вести не о преемниках, а о сменщиках. Он очень верное слово нашел, за это А.Шутову памятник надо поставить. Преемник - это терминология чрезмерно высокая, архаическая и юридическая. А здесь - рабочие будни, для которых более подходит адекватный технический термин: не преемник, но сменщик. От "высокого штиля" Русская Система переходит к прозе…
________________________________________________
Лилия ШЕВЦОВА,
ведущий исследователь Московского Центра Карнеги:
"ЧТО ОХРАНЯЮТ НАШИ ОХРАНИТЕЛИ?
Российский путь к демократии в представлениях Сергея Маркова, Алексея Чадаева
и Андраника Миграняна"
ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПУТИНА ГЛАЗАМИ
ЕГО ЗАЩИТНИКОВ
О ВЕЛИКИХ ПРОРЫВАХ И БОЛЬШИХ ПРОЕКТАХ
РУССКИЕ ПРОЕКТЫ В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ
ВЛАДИМИР ПУТИН КАК НАШЕ ВСЕ
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПО ЧАДАЕВУ
О ПОЛИТИЗАЦИИ ЭКСПЕРТИЗЫ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯХ
Среди участников дискуссии есть несколько человек, которые делают ставку на нынешний российский политический режим. При этом рядом оказались люди, на первый взгляд, несовместимые, принадлежащие к разным профессиональным весовым категориям. Возможно даже, что кто-то из них не хотел бы находиться в такой компании. Тем не менее в данной дискуссии Андраник Мигранян, Сергей Марков и Алексей Чадаев продемонстрировали, что все они являются сторонниками одной и той же позиции, пусть и формулируемой по-разному и по-разному обосновываемой. И можно предположить, что эта позиция имеет прямое отношение к их общественному статусу.
Все трое - члены Общественной палаты, этого неформального органа российской власти, который призван играть в нынешней политической реальности немаловажную роль: быть и экспертным советом Кремля, и назначенным президентом "гражданским обществом". Там нет случайных людей, а есть только те, кто прошел мелкое сито отбора и доказали, что могут осуществлять функцию идеологического и интеллектуального обрамления власти и что она им может доверять. Поэтому высказывания членов Общественной палаты, принадлежащих к официальной российской элите и являющихся не только рупорами власти, но и ее советниками, представляют определенный интерес. Тем более, если речь идет об их представлениях о настоящем и будущем российской государственности.
Объединяющая А.Миграняна, С.Маркова и А.Чадаева позиция сводится к тому, что нынешний российский политический режим имеет потенциал, пока еще полностью не раскрытый, и способен модернизировать Россию, сделать ее современной страной, развитой во всех отношениях. И ради этой желанной перспективы, относимой, правда, в неопределенное будущее, все трое выступают за сохранение статус-кво, что дает основание рассматривать уважаемых дискутантов как выразителей охранительной тенденции. Я не вкладываю в эти слова никакого негативного смысла. Охранительная тенденция существует во всех системах, даже несомненно демократических. Вопрос лишь в том, какое именно системное статус-кво защищается.
Политический режим Путина глазами его защитников
Надо отдать должное нашим охранителям - они отнюдь не апологеты нынешней российской политической реальности. И приукрашивать ее они вовсе не склонны. Они защищают статус-кво, отдавая себе ясный отчет в том, насколько далеко защищаемое от совершенства. Попробую воспроизвести их констатации и оценки.
В России имеет место "сращивание экономической и политической сфер и монополизация власти в этих сферах", что "серьезно уменьшает модернизационный потенциал государства" (А.Мигранян).
"Вот создали мы вертикаль власти. Ну и что теперь? Что она должна делать, господин президент, эта вертикаль? <…> Мы являемся свидетелями того, как наша вертикаль власти перешла к мародерству" (С.Марков).
"Сегодня кадры госчиновничества слишком коммерчески мотивированы, а моральные, внеэкономические факторы сильно деградировали<…> Принципы отбора и подбора администраторов <…> практически отсутствуют, и в этих условиях, естественно, происходит вымывание кадров, способных укрепить государственный аппарат, подмена их чиновниками-бизнесменами, которые превращают управление государственной собственностью в частный бизнес. А это - основа поголовной коррупции, свидетелями чего мы, собственно, и являемся" (С.Марков).
В кадровой политике российской власти "лояльность важнее, чем профессионализм" (А.Чадаев).
Налицо "масштабный кризис доверия внутри политической и управленческой элиты, утрата доверия всех ко всем" (А.Чадаев).
Российская элита "плохо работает, плохо управляет развитием страны. Полагаю, что с нынешней элитой у нас вряд ли будет возможность успешно развиваться. Люди, входящие в нее, крайне эгоистичны и непатриотичны. Конечно, все они патриоты в том смысле, что предпочитают русскую водку и русских девушек. Однако они предрасположены не к тому, чтобы отдавать стране, а только к тому, чтобы у нее забирать, и в этом смысле они патриотичны на словах, но глубоко антипатриотичны на деле" (С.Марков).
"…Российская элита - наиболее бездуховная и циничная во всем мире. Российское телевидение бездуховно и цинично, как никакое другое" (С.Марков).
"Вот создали <…> местное самоуправление, но полномочий ему не дали. Во-первых, потому, что управлять не умеют, а во-вторых - дашь, так все разворуют. Но как можно научиться управлять, если нам не дали то, чем управлять: вы-де сначала научитесь, а мы вам потом позволим порулить? Понятно, что еще немного, и оставшиеся еще энтузиасты местного самоуправления разбегутся по стране, и придется на их место назначать уполномоченных из района или из области" (А.Чадаев).
"Чтобы был независимый суд, нужны две равные по силе противоборствующие стороны. Тогда он может быть независимым и свободным. Но если одна сторона слишком сильная, а другая слишком слабая (речь идет о нынешних российских реалиях. - Л.Ш.), то суд не может быть независимым: испытывая давление этих двух сторон, среди которых одна явно преобладает, он будет склоняться под ее напором. Если общество слабое, если бизнес слабый, если слаба партийная структура (речь опять-таки о нашей действительности. - Л.Ш.), суд всегда будет принимать решения в пользу более сильного" (А.Мигранян).
"Кто голосует за партию власти в стране? Среди прочего там есть любопытная - массовая! - прослойка людей, которые получают по две тысячи рублей в месяц в том месте, где у них лежит трудовая книжка, и на работу почти не ходят. Им за эти две тысячи рублей просто надо раз в полгода сходить куда-нибудь и поставить правильную галочку" (А.Чадаев).
Таковы российская власть, российская бюрократия, российская элита, российский суд и их взаимоотношения с обществом в описании А.Миграняна, С.Маркова и А.Чадаева. Порой такое впечатление, что читаешь Владимира Рыжкова либо даже Гарри Каспарова.
Из приведенных выше высказываний ясно, что охранители понимают сами и не считают нужным скрывать от других: нынешняя политическая система, мягко говоря, не идеальна. Они явно не хотят оказаться в роли пропагандистов советского образца, они озабочены своей профессиональной репутацией и потому в оценках реальности стараются быть объективными, что, разумеется, достойно уважения. Но ведь если признается, что система негодная, то естественно было бы предположить, что мысль экспертов сосредоточится на том, как эту систему изменить. Однако нашим охранителям такая логика явно не близка. Правда, кое-какие рецепты лечения системных болезней они предлагают, и я этих рецептов еще коснусь. Но пафос их выступлений все же в другом. Он в том, чтобы использовать именно эту систему для достижения Россией амбициозных технологических, экономических и внешнеполитических целей. Предполагается, что такое возможно.
О великих прорывах и Больших проектах
Андраник Мигранян - давний и последовательный сторонник авторитарной модернизации. Им движут не конъюнктурные соображения, а концептуальные убеждения. И он находил в себе мужество отстаивать их даже тогда, когда они могли вызывать лишь всеобщее отторжение. Поэтому Андраник Мовсесович имеет все основания обижаться на тех, кто называет его "кремлевским пропагандистом". Но сегодня его концепция вошла в резонанс с доминирующей политической тенденцией, и потому автономно от нее он восприниматься не может. Да ведь и сам А.Мигранян не считает нужным скрывать, что желаемый им авторитарный режим сегодня в стране налицо, и готов в меру сил его поддерживать. Инструмент модернизации, по его мнению создан, и дело теперь лишь за самой модернизаций, которая автору видится двухэтапной.
"Для чего нам нужен такой авторитарный режим?" - спрашивает он, упреждая возможные вопросы. И отвечает: "Я сохраняю уверенность в том, что харизматический лидер, опираясь на поддержку масс, может пробить сопротивление бюрократии и осуществить модернизационный прорыв. То, что нам нужен прорыв, очевидно всем. Его основные задачи: снять страну с нефтегазовой иглы и осуществить всеобъемлющую технологическую модернизацию. Об этом много говорил президент, об этом пишет и Сергей Глазьев в своем докладе о шестом технологическом укладе, о био- и информационных технологиях и о том, что если мы в этот уклад не впишемся, то останемся на глубокой периферии глобального мира. Но для реализации подобных задач нужна сильная и эффективная власть, обладающая большими ресурсами".
Это - первый этап: технологический прорыв, который, в свою очередь, создаст предпосылки для второго, когда должно "состояться нечто подобное пакту Монклоа в Испании", призванного подвести историческую черту под авторитаризмом и стать исходным пунктом развития страны на демократической основе. И Андраник Мовсесович, объявивший себя "единственным либералом в стране", который, в отличие от самовольно присвоившей себе это имя "шантрапы", познал в либерализме толк, пытается через головы своих не очень вменяемых коллег донести до читателя истину, коллегам этим недоступную. "Они не понимают, - сетует он, - что если наш сегодняшний модернизационный ресурс будет эффективно использоваться, и страна слезет с нефтяной иглы, если начнут формироваться элементы шестого технологического уклада, то это само создаст предпосылки для того, чтобы покончить с авторитаризмом".
Я с пониманием и сочувствием отношусь к амбициям моего оппонента. Он искренне верит в то, что говорит о себе и других, и у меня нет ни малейшего желания эту его веру подрывать. Но высказать некоторые соображения и сомнения по поводу программы Андраника Мовсесовича я все же рискну.
Мне не очень понятно, на основании каких фактов и реальных тенденций автор делает свой вывод о том, что нынешний российский авторитаризм способен снять страну с сырьевой иглы и ввести ее в шестой технологический уклад. Почему тогда Путин не пытался до сих пор начать модернизационный прорыв? Почему его второе президентство было сплошной чередой мер по концентрации власти, которую он использовал для защиты самой концентрации? Напомню, что доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете сейчас составляет 44,5%, а доля товаров ТЭК в экспорте - 63,3%. И есть достаточно оснований предполагать, что в данном случае мы имеем дело, вопреки предположениям А.Миграняна, не с законом обратно пропорциональной связи, согласно которому усиление авторитаризма может будто бы сопровождаться бурным развитием высоких технологий при ослаблении наркотической зависимости от "иглы", а с законом прямо пропорциональной связи, который действует во всех авторитарных "петро-стейтах". И где же гарантия, что новый лидер либо сам Путин, но в новой роли, этот не им учрежденный закон сумеет отменить?
Но это еще не все. Ведь "отменить" придется и другой закон, который до сих пор нигде не был поставлен под сомнение. Я имею в виду то, что мир не знает пока ни одного примера постиндустриальной модернизации, осуществленной авторитарным режимом. Индустриальные прорывы были, а постиндустриальные - нет. И чтобы доказать такую возможность, недостаточно провозгласить себя первым на Руси либералом. Для этого надо обладать способностью теоретического обоснования проектов, опережающих наличный мировой опыт и ему противостоящих. Не исключаю, что такой способностью Андраник Мигранян обладает. Тогда остается лишь приложить ее к делу и объяснить, каким образом шестой технологический уклад, возникший в развитой инновационной среде при свободе бизнеса и его правовой защищенности, может появиться в стране, где, как объяснил нам сам Андраник Мовсесович, экономическая власть сращена с политической, бизнес слаб, общество беспомощно, а суд судит неправедно. Ведь все это предполагается оставить неприкосновенным до тех пор, пока успешный технологический прорыв не создаст предпосылки для перемен. Но мне все же не хватает доказательств, что сам прорыв возможен и при таких обстоятельствах.
На кого, интересно, будет опираться при этом авторитарный лидер? Допустим, что на "поддержку масс", которая призвана помочь ему, по Миграняну, "пробить сопротивление бюрократии". Но мы знаем, что такое "поддержка масс" при отсутствии гражданского общества и административно управляемой судебной системе. Это модель легитимации репрессий против тех, кто назначается на роль "врагов". А чтобы осуществлять такие "назначения", нужны соответствующие структуры, которые называются репрессивными. Как они действуют при зависимых судах и подконтрольных СМИ, Андранику Мовсесовичу известно не хуже, чем мне. Равно как и то, что означает при таких обстоятельствах "поддержка масс".
Да, опыт репрессивно-мобилизационной технологической модернизации в истории существует. Но он имел место не в любимой А.Миграняном Англии и вообще не на Западе, а в России времен Петра 1 и в Советском Союзе времен Сталина. Однако то была индустриальная модернизация, а постиндустриальная не случилась пока и в нашей стране. Если проект Андраника Мовсесовича, считающего себя "реалистом", станет реальностью, то России в очередной раз суждено будет стать первопроходцем, превращающим сказку в быль. В таком случае первый этап из двух им намеченных завершится успешно. Но даже в этом фантастическом случае мне трудно представить переход к этапу второму, предполагающему трансформацию авторитарного режима в демократический.
Ведь при успешной модернизации ни авторитарному лидеру, ни кому бы то ни было в стране и в голову не придет менять модель управления и начинать дегерметизацию общества. С какой стати? От добра, насколько известно, люди в здравом уме добра не ищут. Что-то не припомню, чтобы после сталинской модернизации 1930-х годов последовало что-то похожее на пакт Монклоа. Наоборот, авторитарная модернизация сопровождалась еще большим упрочением и ужесточением авторитарной власти.
Трудно сказать, на основании чего А.Мигранян выводит закономерность, согласно которой "все авторитарные режимы погибают в результате своих успехов". Зная об отношении Андраника Мовсесовича к отечественным экспертам, которое он не считает нужным утаивать, сощлюсь на зарубежных. По их мнению, последние две волны демократизации в Латинской Америке, Южной, Восточной и Центральной Европе были следствием не успехов, а экономических и прочих неудач авторитарных режимов. Так считают Алфред Штепан, Хуан Линц, Терри Карл, Филипп Шмиттер - признанные в мире авторитеты по вопросам транзита. А Клаус Оффе, Джузеппе ди Палма и Алберт Хиршман давно на огромном историческом материале показали роль независимых институтов в демократизации общества, а также то, как важна роль политического лидерства не в концентрации ресурсов, а, напротив, в их распределении между политическим акторами. Наконец, о соотношении демократии, авторитаризма и экономического прогресса можно прочитать у Адама Пшеворского и Фернандо Лимонджи; их выводы открытую А.Миграняном "закономерность" тоже не подтверждают.
Возможно, на подсознательном уровне он руководствуется воспоминаниями о том, что в России авторитарные технологические прорывы до сих пор сопровождались новыми отставаниями. Или, говоря иначе, о том, что успехи сменялись отсутствием таковых и, соответственно, кризисами и обвалами авторитарных режимов. Но если расчет на это, то тогда хорошо бы перенести такие представления из подсознания в сознание и включить в свой стратегический проект. А заодно объяснить, какие предпосылки для демократии и становления гражданского общества будут созданы на стадии авторитарной модернизации, ни демократии, ни гражданского общества не предусматривающей. При таком историческом маршруте у Андраника Мовсесовича в эпоху будущего постмодернизационного кризиса (если, разумеется, сама модернизация состоится) наверняка найдутся благодарные последователи, которые будут говорить всякие обидные слова будущим отечественным либералам, не способным уразуметь то, что Россия до демократии не дозрела, так как никогда при демократии не жила.
А теперь - о другом проекте модернизации, представленном Сергеем Марковым. В отличие от Андраника Миграняна, этот проектировщик не склонен членить наше будущее на модернизационные этапы, предпочитая синхронизировать предлагаемые им преобразования во времени. Правда, при некоторых исключениях, которые в большей степени характеризует проект в целом, чем его остальные составляющие. Но - обо всем по порядку.
Начну с того, что у обоих экспертов, несмотря на различия их подходов, есть и нечто общее. Это общее заключается не только в охранительной позиции, но и в том, что приоритетной они считают модернизацию технологическую и экономическую, которая обоим видится в мобилизационном исполнении. Своеобразие же творческого метода С.Маркова не только в том, что он считает нужным сочетать такую модернизацию с параллельным "выращиванием демократии", но и в том, что в этом методе политологические целеполагания дополняются конструированием организационных форм. Для реализации Больших проектов нужны мирового уровня мегакорпорации, нужны проектные комитеты и, наконец, нужна проектная партия, что в совокупности должно сделать Россию одним из главных игроков на международной арене, полноправным членом "мирового правительства".
Вера Сергея Александровича в то, что громадье его планов возвеличит страну и осчастливит ее народ, впечатляет. Но проекты отличаются от прожектов тем, что они, во-первых, опираются на уже обозначившиеся в жизни тенденции, а во-вторых, наличием мотивированных исполнителей. Начнем с тенденций.
В качестве примера успешно осуществляемого проекта Сергей Марков упоминает такую мегакорпорацию, как Газпром. Пример, по-моему, не очень убедительный. Напомню проектанту широко известные цифры. Российские государственные кампании накопили более 216 млрд. долларов долгов, причем основным должником является как раз Газпром. Не для кого не секрет и то, что за последние пять лет Газпром увеличил производство лишь на 2%. Равно как и то, что более половины российских газопроводов были построены несколько десятилетий назад и нуждаются в обновлении. И это - успешный проект? Может быть, в актив корпорации следует записать рост мировых цен на ее продукцию?
Что же касается другой идеи Сергея Александровича об использовании Газпрома как "колоссального инструмента российского влияния в мире", то с этим, на мой взгляд, дело обстоит еще хуже. Давно уже Россия не проводила такую провальную внешнюю политику, пытаясь орудовать Газпромом, как ломом. Это же надо было так запугать Европу его медвежьими ухватками, что она начала строить общую энергетическую политику, чего Европейский Союз раньше не мог добиться. Так что пока мы вместе с Газпромом живем по принципу лучшего российского политолога, по ходу дискуссии уже упоминавшегося, Виктора Степановича Черномырдина: "Хотели как лучше, а получилось, как всегда!" И где гарантия, что и остальные Ваши, Сергей Александрович, Большие проекты в очередной раз не будут осуществлены в полном соответствии с этим принципом?
Таких гарантий не может быть, потому что "вертикаль-мародер" (Вы сами ее так назвали), которой предстоит воплощать Большие проекты в жизнь, будет действовать не в соответствии с Вашими благими намерениями, а в соответствии со своей собственной природой. Конечно, я внимательно читала оба Ваши выступления в дискуссии и заметила, что в число Ваших проектов (правда, статусом "Больших" Вы их не наделяете) входит и улучшение этой вертикали, т.е. очищение ее от мародеров. Насколько могу судить, решению данной задачи в Ваших концептуальных предложениях и должна служить демократия, по причине чего Вы, в отличие от А.Миграняна, и не откладываете ее "выращивание" до лучших времен. Но Вы отличаетесь от своего коллеги по Общественной палате не только этим.
Представления Андраника Мовсесовича о будущей российской демократии не вызывают сомнений в том, что у него речь идет именно о демократии. Вы же предлагаете считать таковой нечто очень уж специфическое, что свидетельствует о том, что в Общественной палате нет консенсуса даже в понимании смысла слов. Поэтому я и позволю себе сопоставить Ваше их толкование с толкованием А.Миграняна, что, в свою очередь, позволит мне более четко обозначить водораздел между двумя основными вариантами современного российского политологического охранительства.
Русские проекты в контексте мировой политической истории
Андраник Мигранян категорически возражает против причисления его к "сторонникам какой-то особой российской демократии". Он убежден в том, что "есть лишь одна, либеральная демократия", что "либеральные ценности универсальны" и что поэтому "не надо придумывать что-то новое, фантастическое"; стремиться надо к тому, чтобы соответствовать "универсальному идеальному типу". Но, в который уже раз оговаривается Андраник Мовсесович, "в России эта демократия должна еще вызреть".
Не спорю: должна. Мое непонимание, как я выше попыталась объяснить, касается не темпов движения к демократии, а возможности ее вызревания в горниле авторитарной технологической модернизации. В данном отношении А.Мигранян никаких доказательств не предъявил. Их у него заменяют отсылки к истории некоторых западных стран. Однако такие исторические аналогии у меня лично вызывают лишь новые вопросы.
Честно говоря, не могу взять в толк, что же все-таки хотел сказать уважаемый политолог, отсылая нас в Англию ХУ11 и начала ХУШ столетий. Он упоминает Славную революцию 1688 года, в которой усматривает давний аналог пакта Монклоа. Пусть так. Но какое поучение мы должны извлечь из этого события для понимания происходящего в России начала ХХ1 века? Ответа нет. Еще в тексте А.Миграняна говорится о том, что и после Славной революции почти три десятилетия ситуацию в стране не удавалось стабилизировать. "И вдруг - цитирую автора - в 1716 году наступила стабилизация, хаос закончился". Потому, надо полагать, что "медленное, но неуклонное приручение политического класса" именно к этому времени было завершено. Но кто же его приручал и приручил? Авторитарный правитель? Если бы Андраник Мовсесович это утверждал, то заслужил бы упрек в том, что вводит нас в заблуждение. Потому что "хаос кончился" не при авторитарном режиме (откуда ему вообще взяться после заключения "Пакта Монклоа"?), а, наоборот, именно тогда, когда король Георг 1 перестал участвовать в формировании правительства и председательствовать в нем, т.е. когда оно в полной мере стало правительством парламентского большинства. Андраник Мовсесович об этом не говорит, и благодаря такому умолчанию его исторический экскурс как бы остается на службе его концепции авторитарной модернизации. Но - разве что "как бы"…
Однако главный мой упрек автору заключается, повторю, в том, что он оставляет читателя в полном неведении относительно того, какое же отношение к нашей сегодняшней жизни имеют Славная революция и то, что было после нее. Ведь нам, чтобы добраться до ее российского аналога, надо еще пройти период авторитарной технологической модернизации. Поэтому лучше бы Андраник Мовсесович просветил нас насчет того, что же происходило в Англии до Славной революции. Какая авторитарная технологическая модернизация имела там место? Кто ее осуществлял? Кромвель? Карл 11? Яков 11? Однако об этом периоде А.Мигранян даже не упоминает. И правильно, между прочим, делает.
В десятилетия, предшествовавшие Славной революции, можно найти борьбу аристократического парламента с королями и борьбу парламентских партий (тори и вигов) между собой, но уж точно не то, что должно там быть согласно концепции Андраника Мовсесовича. Поэтому он в своем экскурсе в английскую историю, призванном вроде бы эту концепцию обосновать, о ней забывает и акцентирует наше внимание на том, что демократия нигде быстро не строилась, а потому и нам надо бы научиться историческому терпению, т.е. умению ждать, пока она "вызреет". О том, что демократия везде, в том числе и в Англии, вызревала в борьбе за демократию, а не в терпеливо-покорном ожидании ее вызревания, политолог забывает тоже. Более того, нам предлагается не просто ждать, а на время и отказаться от демократии в пользу авторитарного правления, чего, однако, в английском образце, рекомендованном для подражания, вообще не просматривается.
Чувствуя, возможно, некорректность этой аналогии, А.Мигранян переносит нас из Англии ХУ11 и ХУШ веков во Францию середины ХХ столетия. В данном отношении ассоциации с нашей сегодняшней политической практикой гораздо более очевидные и прозрачные. Ведь во Франции был де Голль, которого его ближайшие соратники называли "выборным монархом", а его режим - "выборной монархией"; эти понятия использовал, в частности, советник французского президента Реже Дебре. Однако и тут мы имеем дело с натяжками. Да, де Голль добился принятия новой конституции, увеличившей властные полномочия главы государства. Но голлистская Пятая республика лишь внешне похожа на нынешнюю российскую политическую конструкцию. И дело не только в том, что там не было ни административно насаждавшейся монополии верховной власти, ни передачи ее преемнику. Дело и в том, что там не было и доминирования президентской партии в том смысле, в каком оно имеет место в современной России.
Между тем А.Мигранян отсылает отечественную либеральную "шантрапу" именно к французскому политическому опыту. Посмотрите, призывает он, во Франции ведь был прямой аналог нашей "Единой России". И напоминает о голлистской партии, доминировавшей на политической сцене 14 лет при президентстве де Голля и столько же - при президентстве сменившего его Помпиду (при де Голле, поправлю коллегу, на несколько лет меньше, учитывая его досрочную вынужденную отставку, однако это в данном случае не столь важно). Но, позволю себе возразить, во Франции тех времен, в отличие от нынешней РФ, существовала серьезная политическая конкуренция, а президентская партия хотя и формировалась при самом активном участии президента, имела реальную социальную базу и не была, подобно "Единой России", профсоюзом бюрократии, покупающей голоса избирателей по описанному А.Чадаевым методу. Поэтому она продолжала добиваться успехов и после того, как ее основатель покинул Елисейский дворец. Точно так же и в Италии послевоенного периода, и в современной Японии, тоже упоминаемых А.Миграняном, система доминирующей партии не исключала и не исключает ни острую политическую борьбу, ни свободу СМИ, предполагающую существование независимых от правительства телевизионных каналов. В интерпретации же Андраника Мовсесовича разница между доминированием одной партии в условиях демократии и ее доминированием как альтернативы демократии полностью стирается.
Что же в итоге? В итоге ориентация на "универсальный идеальный тип" демократии, накладываясь на логику охранительства, оборачивается тем, что мышление эксперта переодевает в одежды универсального нечто особое и "самобытное". Не осознанно, разумеется, а по причине исходной установки на то, чтобы рассматривать нашу политическую практику как совместимую с движением в направлении демократии западного типа.
Казалось бы, Сергей Марков, в отличие от своего коллеги по Общественной палате, в такие ловушки попадать не должен уже потому, что является не только "убежденным демократом" (по его самооценке), но и вполне состоявшимся почвенником (по моему представлению), хотя еще и не очень органичным. Но и ему, тем не менее, избежать их не удалось.
Сергей Александрович тоже любит ссылаться на западный политический опыт. Но - лишь для того, чтобы доказать: западная демократия не есть нечто универсальное, т.е. одинаковое для всех стран, где она утвердилась. Наоборот, в каждой из них она устроена по-разному, сообразно национальным особенностям и традициям: в США она не такая, как в странах Евросоюза, в Японии - не такая, как в США и странах Евросоюза. Поэтому, мол, и в России демократические институты должны соответствовать ее идентичности. И все было бы хорошо, если бы Сергей Александрович решился на полное отрицание каких-либо единых стандартов и критериев демократии. Но он не решился. В результате же читателю, который хочет разобраться в том, как сочетаются в мышлении С.Маркова эти стандарты и критерии с его проектом самобытного российского народовластия, не позавидуешь. Политологи Игорь Клямкин, Виктор Шейнис, Алексей Кара-Мурза и предприниматель Павел Солдатов просили Сергея Александровича разъяснить политический смысл его лозунга: "Европеизировать институты, сохранив русскую идентичность". Он разъяснил - добросовестно и обстоятельно, но ясности от этого не прибавилось.
Впрочем, кое-что Сергей Александрович все же прояснил.
Во-первых, под напором участников дискуссии он вынужден был признать, что переход к правовому государству его концепцией не предусматривается, ибо "это на сегодня задача неподъемная". Отсюда следует, что все соображения проектанта о необходимости для России европейской ориентации лишаются какого-либо актуального содержания. Не удивительно поэтому, что С.Марков не стал отвечать П.Солдатову, напомнившему политологу о заглавной роли права в европейской цивилизации. Обошел он и категорические возражения того же автора, касающиеся фактически провозглашенной С.Марковым презумпции виновности российского народа в отсутствии в России правовой традиции. И понятно, почему: член Общественной палаты не может позволить себе объявить народ главным источником беззакония, а представитель околовластной элиты не может признать, что таким источником являются российская власть и сама российская элита, на чем настаивает оппонент Сергея Александровича. Для нее переход к правовому государству - и в самом деле "задача неподъемная", а потому она под пером одного из представителей этой элиты превращается в неподъемную для страны.
Во-вторых, С.Марков своими ответами на вопросы и возражения оппонентов дал понять, что же он все-таки понимает под определяющей ролью государства в строительстве российской демократии и формировании гражданского общества и почему предлагает выделить на развитие последнего огромные бюджетные средства - 100-150 млрд. долларов. Потому что само гражданское общество видится ему не в виде множества автономных от государства организаций, отстаивающих интересы входящих в них людей, а в виде организаций, специально созданных для помощи тем, кто в ней особенно остро нуждается, т.е. наиболее слабым социальным слоям. Тем самым "сильные" и самодостаточные автоматически лишаются права на самоорганизацию ради достижения собственных целей, а гражданское общество выстраивается по модели Общественной палаты вверху и "наших" внизу, помогающих государству "заботиться о людях". То есть, речь идет о "приводных ремнях" патерналистской власти, от нее зависимых и ей подконтрольных. Речь идет о гражданском обществе, действующем внутри бюрократической вертикали и призванном смягчать чиновничий произвол в государстве, обреченном, по Сергею Маркову, быть неправовым, не покушаясь при этом на его устои. Такие "приводные ремни" от власти к населению хорошо известны по советским временам, и ничего принципиально нового в данном случае не предлагается.
Правда, проект С.Маркова предусматривает еще и учреждение дополнительных критериев отбора в элиту, а именно - патриотичности и нравственности. Но как эти критерии соблюдаются в неправовом государстве, мы опять-таки знаем по опыту советской эпохи. Из той же эпохи - и идея "проектной партии". Считая себя "убежденным демократом", политолог не прочь бы соединить эту идею с идеей политической конкуренции, однако вынужден признать, что в обозримом будущем они несоединимы. Но и при отсутствии такой партии С.Марков не знает, как ввести политическую конкуренцию в нынешнюю властную систему, в чем опять-таки откровенно признается. И что же остается в его проекте демократического кроме демократической риторики?
Ничего не остается. И я не думаю, что Сергей Александрович отдает себе в этом ясный отчет. Но кое-что его, похоже, все-таки смущает. Иначе мне трудно объяснить, почему в какой-то момент он решил переключить наше внимание с политических целей на политические средства их достижения, причем такие, которые политическую конкуренцию исключают по определению. По крайней мере - на неопределенное время. Политолог напоминает о "выращивании демократии" генералом Франко, бразильскими военными в 1960 - 1980-е годы и даже… Но лучше процитирую: "…Хорошо известно <…> и то, что в Германии и Японии демократия строилась в условиях оккупационного режима, который является сверхавторитарным. Но он выращивал демократию. Так нужно выращивать ее и у нас".
Итак, перед нами проект авторитарной демократизации, аналоги которой отыскиваются в деятельности диктаторских либо оккупационных ("сверхавторитарных") режимов. При этом, правда, остается загадкой, к какой из двух разновидностей авторитаризма ближе нынешний российский режим, равно как и то, соответствует ли он хотя бы одной из них или ему еще предстоит подтянуться до их уровня. Но главное даже не в этом. Главное в том, что российским автократам, в отличие от заграничных, предстоит вырастить не просто демократию. Им предстоит создать демократию особого типа, в которой идея права не является приоритетной, а гражданское общество выступает не как автономная от государства самоорганизация граждан, отстаивающих свои интересы и контролирующих власть, а как совокупность организаций для граждан. Организаций, возглавляемых специально подготовленными в государственных вузах менеджерами и финансируемых из бюджета со всеми вытекающими отсюда для этих организаций ограничениями. Естественно, что в Испании, Бразилии и в Германии с Японией аргументы в пользу такого толкования народовластия отыскать непросто. Поэтому у этих стран и предлагается заимствовать лишь средства движения к цели, но не саму цель.
Цель же, соответствующую "русской идентичности", Сергей Александрович ищет и находит в Византии. В его проекте она выступает источником духовности, которая и призвана заменить нам право и в очищении вертикали власти от мародеров, и в воспитании активистов гражданских организаций, чувствующих свою ответственность перед теми, кого они должны защищать, и в обеспечении достоинства личности, и во всем остальном. По сути же речь идет о том, чтобы создать систему, в которой каждый индивид принимает ценности и интересы власти не только как общезначимые (государственные), но и как свои собственные. Напомню Сергею Александровичу, что нечто похожее пытался делать в свое время император Николай 1 с помощью ведомства графа Бенкендорфа, одним из результатов чего стал катастрофический для России исход Крымской войны. Кроме того, под псевдонимами идейности и сознательности "духовность" целенаправленно насаждалась и в советские времена - и "проектной партией", и ее "приводными ремнями", и ее "карающим мечом". Определенных результатов в виде могущественной военной державы на этом пути удалось достигнуть, что, похоже, и вдохновляет С.Маркова. Но неплохо бы помнить и о том, что случилось потом. В том числе и с нашей "духовностью". И к напоминаниям участников дискуссии о судьбе Византии тоже не стоило бы относиться легкомысленно.
Многим, очень многим отличается Сергей Марков от Андраника Миграняна, которому и в голову не придет синтезировать Запад и Византию, да еще таким образом, что от "Запада" в этом синтезе почти ничего не остается. Андраник Мовсесович по своим общественным идеалам и ценностям - западник, Сергей Александрович - "самобытник", по целому ряду позиций сближающийся с Михаилом Юрьевым, Александром Дугиным, Дмитрием Володихиным. Но перед обоими стоит один и тот же вопрос о том, как приспособить нынешнюю государственную систему для решения задач, которые ей противопоказаны. И ответ они ищут в одном и том же направлении. Они ищут внутри самой системы такого субъекта, который был бы способен реализовать их проекты вопреки очевидным для них порокам этой системы, гасящей любые модернизационные импульсы.
Владимир Путин как наше все
Таким надсистемным субъектом в построениях обоих политологов выступает президент России. Но - не как государственный институт, а как конкретная персона. "Личность Владимира Путина важнее для общества, чем институты государства", - утверждает С.Марков. Но раз так, то не стоит удивляться тому, что он прикидывает варианты продления лидерства Путина после того, как тот покинет свой нынешний пост. Можно предположить, рассуждает Сергей Александрович, что Путин возглавит "Единую Россию" и, учитывая ее легко прогнозируемое доминирование и в будущей Думе, сможет контролировать деятельность исполнительной власти, уменьшив тем самым влияние на нее будущего президента. И тогда, заключает С.Марков, наша политическая система станет сродни французской, что очень хорошо, так как это сблизит нас с Европой.
Думаю, однако, что самим европейцам такая логика, согласно которой личность правителя важнее институтов, приемлемой не покажется. Да и некоторые участники нашей дискуссии просили Сергея Александровича разъяснить, как долго может существовать политическая система, в которой распределение властных полномочий и влияние на принятие решений определяется персональными особенностями и степенью популярности одного человека. А как перераспределение реальных полномочий будет соотноситься с номинальными конституционными полномочиями главы государства? Не подорвет ли это роль института президентства со всеми сопутствующими последствиями? К сожалению, все такого рода вопросы остались без ответов. Похоже, дальше, чем на ход вперед, околокремлевские политические шахматисты считать варианты не предрасположены.
Это относится и к Андранику Миграняну. Он полагает, что Путин, перестав быть президентом, может сохранить политическое лидерство, став не только председателем правящей партии, но и премьер-министром. При этом "новый президент будет позиционировать себя как ученика, соратника, продолжателя дела Путина, став <…> главным помощником премьера". Хочется надеяться, что Владимир Владимирович пребывает в здравом уме и удержит страну от возвращения к вождистской модели правления, при которой формальная государственная должность правителя не имеет значения. Превратить главу государства, наделенного конституцией почти царскими полномочиями, в техническую фигуру, в помощника вождя - это не слабо. Сразу включается воображение: а что, если всенародно избранный помощник с царскими полномочиями разойдется во взглядах с тем, кому должен помогать? Или, скажем, случится кризис - кто будет восприниматься ответственным за него? Вождь или царь?
Андраник Мовсесович популярно разъяснил нам, что в сложившейся политической системе президент "принимает все политические и кадровые решения и не несет за это никакой ответственности", в то время как правительство "не принимает никаких политических и кадровых решений, но отвечает за все". Реальный же смысл идеи политолога заключается, похоже, в том, чтобы освободить президента не только от ответственности за принимаемые решения, но и за само принятие решений. Помощник - он и есть помощник. Пусть читает от имени вождя послания парламенту, с высочайшего дозволения подписывает законы и выполняет поручения хозяина Белого дома (или премьер переберется в Кремль?) на переговорах с зарубежными лидерами. Ну, а все-таки если кризис? Вождь ведь за неудачи не отвечает, отвечают нерадивые помощники. Но если одним из них является выбранный населением глава государства с монархическими полномочиями, то он ведь может на роль стрелочника и не согласиться. И что тогда будет? Как поведут себя Администрация президента, главы регионов, палаты парламента, руководители федеральных телеканалов? Сохранится ли между этими институтами и внутри каждого из них нынешнее "монолитное единство"?
Я могу понять А.Миграняна. Кроме Путина, он не видит в стране "политиков, которые могут реализовать стратегию прорыва". И ради сохранения лидерства Путина политолог готов мириться с нынешней конституционной конструкцией, которую считает "ненормальной" и в перспективе рассчитывает на ее замену президентской конструкцией американского образца. Он готов с ней временно мириться, потому что она не мешает, по его мнению, передать реальную власть премьеру, сделав президента техническим исполнителем при главе правительства. Но такая "тактическая" коррекция институциональной системы уж точно ее не улучшит. Рассчитывать на то, что это может способствовать осуществлению модернизационного прорыва, по меньшей мере, наивно. Потому что модернизационные прорывы всегда сопровождаются обострением конфликтов в элитах и обществе. При таких обстоятельствах идея отделения реального главы государства от номинального выглядит, прошу прощения, авантюристической. Я уже не говорю о том, как скажется ее воплощение на правовом сознании политического класса и населения. Создаст ли это дополнительные предпосылки для продвижения к демократии английского типа или уменьшит и те немногие, что есть? Похоже, что подобными вопросами Андраник Мовсесович не задается.
Его ставка на нынешний режим - это ставка на одного человека, призванного компенсировать несостоятельность самого режима. Институциональная логика без остатка растворяется в логике персоналистской. Плененный ею, политолог не замечает, что в институциональном смысле его рекомендации воспроизводят то, что сам он считает категорически неприемлемым.
Он, скажем, называет "глупой" нашу с Игорем Клямкиным идею 1990-х годов о трансформации российской политической системы в президентско-премьерскую систему французского типа. Но ведь Ваша, Андраник Мовсесович, собственная нынешняя идея, согласно которой президент выбирается всенародно, а премьер представляет (и возглавляет) партию парламентского большинства, лежит в той же плоскости. Не верите мне, проконсультируйтесь у С.Маркова, он в этом разбирается. Правда, в отличие от нас, Вы предлагаете институциональную "времянку", оставляя читателей в полном неведении насчет того, как, куда и когда из этой "времянки" потом выбираться. Ну и, конечно, мы не додумались до того, чтобы президента сделать подмастерьем премьера.
"А вы что предлагаете?" - спрашивает Андраник Мигранян неуважаемых им либералов, будучи уверенным в том, что альтернативами его единственно реалистической программе могут быть лишь фантазии и утопии. Но мы могли убедиться в том, что единственной объективной реальностью, на которую опирается реалистичный проект Андраника Мовсесовича, является человек по фамилии Путин. Равно как и в том, что историческую миссию модернизатора этому человеку предлагается исполнить, деформировав конституционную институциональную структуру, т.е. отделив реальную верховную власть от узаконенной. Тем самым главную системную болезнь, которая заключается в отсутствии или несоблюдении правил политической и деловой игры, предполагается лечить посредством ее усугубления. Превращение юридически всевластного главы государства в помощника одного из его подчиненных станет не началом прорыва в шестой технологический уклад. Оно станет началом агонии государственной системы.
А на вопрос А.Миграняна ответ есть, и Андраник Мовсесович, уверена, его тоже знает. Ответ заключается в том, что приоритетным направлением развития России должна быть не авторитарная технологическая модернизация как предпосылка модернизации государства, а модернизация государства как предпосылка всего остального. С точки зрения нашей власти и элиты (точнее, их частных и групповых интересов), такая постановка проблемы выглядит, разумеется, нереалистичной. Но, с точки зрения мирового опыта и потребностей развития страны, только она стратегически реалистичной и является. А то, что предлагают кремлевские политологи, как раз из области фантазий и утопий.
Институционализация по Чадаеву
Я пока почти ничего не говорила об идеях Алексея Чадаева. Между тем они заслуживают внимания уже потому, что оба выступления этого участника дискуссии свидетельствуют о понимании им ущербности персоналистской логики. Он прямо призывает осуществить "переход от персоналий к институтам" и пытается наметить пути такого перехода. Благодаря этому появляется возможность увидеть, что такое институционализация политики при исходной установке на сохранение системного статус-кво.
Первое впечатление, возникающее при чтении текстов А.Чадаева, - человек героически сражается с не имеющей решения задачей. Ведь речь идет об институционализации институционально не расчлененной (на независимые ветви) власти, об институционализации внутри бюрократической вертикали. Поэтому вопросы, которые задавал А.Чадаеву И.Клямкин, и ответы на них выглядят беседами людей разных политических культур. Вопросы предлагаются человеком, в глазах которого институционализация неотделима от разделения властей, а отвечает ему человек, руководствующийся логикой системы, в которой предусматривается лишь имитация такого разделения. Поэтому и ответы А.Чадаева интересны разве что тем, как проявляется в них базовая охранительная установка дискутанта, вынужденного реагировать на вызов со стороны носителя принципиально иной политической парадигмы.
Его, скажем, спрашивают о том, приведет ли к реализации принципа разделения властей принятие его предложения о перемещении юристов, пишущих законы в Администрации президента, в кресла думских законодателей. Вопрос резонный, если учесть, что контроль Кремля за законотворчеством никто, в том числе и А.Чадаев, отменять не собирается. Ответ политолога показателен. Он объясняет нам, что работа в Думе существенно отличается от работы кремлевского чиновника, и потому превращение последнего в парламентария "способно изменить многое". Но что именно? Станет ли в результате законодательная власть независимой от исполнительной?
Ответа нет. Вместо него - упрек автору вопроса в том, что тот сам пленен персоналистской логикой и потому не способен разглядеть за перемещениями людей системные сдвиги. Такую реакцию можно понять: ведь то, что для А.Чадаева системные сдвиги, для его оппонента - внутрисистемные кадровые "перестройки". Первый озабочен разделением законодательных и исполнительских функций внутри вертикали власти, а второй мыслит в парадигме разделения властей. Какой у них может быть общий язык?
Другой пример. В первом своем выступлении Алексей Чадаев высказался в том смысле, что институционализация оппозиции возможна в России лишь в том случае, если она будет учреждаться президентом. Последовала просьба разъяснить, предполагается ли, что учрежденная оппозиция получит возможность быть оппозиционной по отношению к самому президенту. Или, говоря иначе, идет ли речь об оппозиции власти или об оппозиции при власти? Однако А.Чадаев уклонился от ответа и в данном случае. Охранительная позиция не предполагает, очевидно, даже обсуждения подобных сюжетов. Призывать президента назначать оппозицию самому себе - значит призывать к подрыву системного статус-кво. Но нельзя признаваться и в том, что назначенная оппозиция будет не более оппозиционной, чем Общественная палата.
Чем, однако, мотивирована сама идея назначаемой оппозиции? Оказывается, наличием таких сфер жизни, в которых "самодеятельность общества ничего дееспособного породить не в состоянии". Вот и вместо конструктивной и ответственной оппозиции оно производит на свет некое "хулилище", способное лишь ругать власть и заведомо неспособное предложить что-либо путное. Но может ли, спрашивали А.Чадаева, оппозиция быть конструктивной и ответственной в тех условиях, в которые она поставлена властью, т.е. при отсутствии свободной политической конкуренции и, соответственно, возможности претендовать на доступ к ответственным должностям?
В ответ последовала ссылка на другие страны, где власти обходятся с оппозицией еще покруче, чем у нас, что не мешает ей оставаться вменяемой. Жаль только, что сами страны, в которые отечественные оппозиционеры могли бы отправиться на выучку, названы не были. Зато было сказано, что открывать доступ к власти и вообще в чем-либо уступать им нельзя, потому что у них другие ценности, а потому, в свою очередь, с ними невозможны ни договоренности, ни компромиссы, ни доверительные отношения. Короче говоря, власть имеет право на монополию, потому что ее конкуренты власти недостойны. Монополию, которая позволяет ей самой решать, что из рожденного обществом правомерно именовать жизнеспособным, а что подлежит решительному выкорчевыванию.
Такая откровенность заслуживает благодарности. Она, кстати, проявляется и в других случаях, когда А.Чадаев описывает мотивацию действий властей. Но я не могу не обратить внимание на то, как он прокомментировал прецедент с правительством Е.Примакова, которое поддерживалось коммунистическим большинством Думы. И.Клямкин привел этот пример как иллюстрацию того, что "хулилище" может становиться вполне вменяемым и ответственным, если оказывается в ответственном положении. Почитайте, если не читали, ответ А.Чадаева. Получите исчерпывающее представление о том, что происходит с охранительной логикой, когда она сталкивается с неудобными для нее фактами. Она становится неадекватной предмету разговора.
В этой логике институционализация означает упорядочивание властной монополии, повышение ее дееспособности, что требует трансформации персональных связей и зависимостей внутри "вертикали" в связи безличные и функциональные. Институционализация необходима для преодоления повсеместно сложившегося положения вещей, при котором "лояльность важнее, чем профессионализм в кадровой политике", а также тотального недоверия "всех ко всем" в государственном аппарате (опять же спасибо А.Чадаеву за ценную информацию), что блокирует даже полезные для системы косметические изменения. Ведь при такой атмосфере, признается политолог, трудно добиться и осуществления его заветной экспертной мечты о пересаживании юристов из Администрации президента в думские кресла. Надо полагать, ответственные товарищи опасаются: а ну как пересаженные сорвутся с поводка!
В этой логике много странного, в ней размыты границы между политическим анализом и политтехнологией, между адаптацией к иррациональному статус-кво и стремлением его рационализировать. Поэтому в ней допускается одобрение таких инструментов политики, как телевизионное общение президента с населением, при одновременной оценке их как "иллюзорной коммуникации". Поэтому даже описанный А.Чадаевым способ пополнения электората "Единой России", который в иной логике может интерпретироваться только как подкуп, преподносится как пример институционализации в партийном строительстве: ведь тем самым создается устойчивая социальная база партии власти. Но мы, повторяю, все же должны быть благодарны Алексею Чадаеву: он помог прирастить наше знание о том, что и как охраняют околокремлевские охранители.
Этого политолога, судя по всему, "зацепила" статья Михаила Краснова, ее юридический пафос ему близок. Потому что институционализация в его понимании представляет собой перевод вертикали власти в правовой режим функционирования. Отдает он себе ясный отчет и в том, что "переход от персоналий к институтам" невозможен при сохранении персонализма на вершине вертикали. "…Я хотел бы, - пишет он, - чтобы преемником Путина стал институт. Не Сидоров и не Петров, а определенная устойчивая институциональная система". Хорошо, спрашивали А.Чадаева, но как быть с доводами М.Краснова относительно того, что наш персонализм обусловлен конституционно? Нужны ли здесь какие-то коррективы?
Ответа опять-таки не последовало. Если, конечно, не считать ответом упрек М.Краснову в том, что тот сам играл не последнюю роль в подготовке действующей конституции. Но такие упреки ничего не доказывают - кроме того, что охрана статус-кво может сочетаться с нежеланием брать на себя ответственность за то, что оно именно такое, а не другое.
Либералы, принявшие участие в дискуссии, пытались убедить своих оппонентов в том, что разумной альтернативы правовому государству сегодня в России не существует, что без последовательного продвижения к нему не может быть ни великих модернизаторских прорывов, ни успешных Больших проектов, ни институционализации властной монополии. Но убедить оппонентов им не удалось и вряд ли удастся. Последние будут ждать, пока сработает закон провала. Или, говоря иначе, ждать до тех пор, пока неэффективность нынешней системы власти, при отсутствии реальной политической конкуренции обреченной на медленное гниение, станет общеочевидной, и российской элите будет предъявлено единственно убедительное для нее доказательство в виде системного кризиса.
Но кризис, который всегда приобретает в России драматические формы, - это очень высокая цена, которую обществу придется заплатить за недальновидность своей элиты. И мы все будем нести ответственность за то, что своевременно не смогли вывести страну из тупика. И те, кто охранял нежизнеспособное статус-кво, и те, кто не сумел убедить общество искать выход до того, как начнется обвал. Так что дискуссия, организованная Игорем Моисеевичем Клямкиным, заставляет всерьез задуматься и еще об одном вопросе, который касается всех ее участников независимо от их места в российской общественно-политической жизни. Это вопрос о роли интеллектуалов и экспертов в политике и - прежде всего - во власти.
О политизации экспертизы и ее последствиях
В свое время Ральф Дарендорф, наблюдая за деятельностью интеллигенции в период подготовки и осуществления "бархатных революций" в Восточной и Центральной Европе, а также за их последующим поведением во власти, пришел к выводу, что место интеллектуала и эксперта - не внутри государственного аппарата, а за письменным столом. Их роль - наблюдать, оценивать, давать советы, писать рекомендации, оставаясь при этом на отдалении от пожирающего огня власти и даже ее отблесков.
Опыт Восточной и Центральной Европы продемонстрировал ведущую роль интеллектуалов как в революционном подъеме, так и в формировании новых правил игры после падения коммунизма. Без них не было бы ни польской "Солидарности" (или она была бы совсем иной), ни "бархатных революций" в Чехословакии и Венгрии, ни "круглых столов" оппозиции и уходящей коммунистической власти, которые позволили осуществить мирный переход к строительству новой системы. Но, увы, почти все интеллектуалы- революционеры оказались хилыми политиками и администраторами на этапе консолидации этой системы. Причем, нахождение во власти деформировало и искорежило многих из них, заставив разрываться между своими принципами и логикой власти и нередко предавать принципы. Оказалось, что даже при демократическом устройстве государства очень легко поддаться искушению стать профессиональным поставщиком иллюзий (профессия, которую на Западе назвали spin-doctor).
Советская и постсоветская российская практика тоже дает немало материала для раздумий о противоречивой роли наших интеллектуалов, в том числе либералов и демократов, во власти и при власти. Это касается и тех, кто был в экспертном окружении первого российского президента, и тех, кто находится в экспертном "пуле" Владимира Путина. Вопрос о том, в какой степени нахождение этих часто ярких, талантливых людей при власти облегчает демократизацию и гуманизацию государства и в какой степени они позволяют коррумпированной и антинародной власти продлевать свое существование и имитировать цивилизованность, остается открытым. Есть все больше оснований считать, что роль либералов-технократов как в ельцинских правительствах, так и в правительствах Путина скорее вела к консервации статус-кво, чем к либеральным реформам, и облегчала сохранение системы, которая по сути не является либеральной. Что касается нового поколения экспертов при власти и людей, которые обеспечивают ее интеллектуальное обслуживание в последние годы, то нет никаких сомнений в том, что они играют немалую роль в консервации системы, которая самоопределилась как антидемократическая. И они должны ощущать свою ответственность за эту траекторию. К тому же их пример показывает (и наша дискуссия не стала здесь исключением), что политизация и идеологизация экспертизы уничтожают саму экспертизу.
Но не менее серьезный вопрос заключается в том, какова может быть роль интеллектуалов и экспертов вне поля власти, выброшенных за его пределы либо по своей воле отдалившихся от власти, которая не соответствует их принципам. Многие участники дискуссии - именно из этого круга. Какова же может быть их миссия в нынешней России, на что им целесообразнее всего расходовать свои силы?
Сегодня большинство "несистемщиков" и "антисистемщиков" специализируются на критике российской политической реальности. Некоторые из них заняли более активную позицию политического оппонирования Кремлю. И тех, и других околовластные аналитики часто обвиняют в отсутствии конструктивного подхода, как делает тот же Алексей Чадаев: мы, мол, не видим вас в числе экспертов, когда обсуждаются вопросы образования, социальной политики, миграции. Но это - неправда.
Неправительственные эксперты тратят массу усилий на то, чтобы донести до Кремля свои предложения. И что толку? Кто их слышит в ситуации, когда власть занята формированием "иллюзии коммуникации" с населением? Достаточно вспомнить о судьбе "программы Грефа", о чем поведал в ходе дискуссии Евгений Гонтмахер. Или об экспертном анализе программы монетизации льгот, осуществленном в Совете, возглавляемом Эллой Панфиловой. В докладе, подготовленном аналитиками, предупреждалось о том, к чему приведет правительственный вариант монетизации, но этот доклад никто не стал даже рассматривать.
Естественно, что либерально-демократическая часть интеллигенции выражает недовольство, на основании чего и делается вывод, что она занялась брюзжанием и самоедством. Да, движение в данном направлении действительно просматривается. Но этому, повторяю, есть системные причины: трудно функционировать и поддерживать огонь мысли в период стагнации. Отсюда и слабая энергетика экспертов либерально-демократического фланга. И я не вижу другого выхода из этого состояния кроме того, чтобы начать работу на опережение. Так, как делали наши коллеги в Центральной и Восточной Европе на закате коммунистической эпохи.
Конечно, им было намного легче, ибо они жили в ожидании приближающего прорыва. Но они не просто ждали его, а много работали на его приближение, готовя не только новую концепцию национального консенсуса, но и конкретные предложения относительно того, что нужно делать в экономике, как проводить банковскую реформу и приватизацию собственности, как реформировать систему образования, какой должна быть новая конституция. Они готовились к длительному марафону. Когда же пробил час перемен, они уже были во всеоружии, чем заметно отличались от российских интеллектуалов 1980-х годов. Ведь факт же, что среди них почти не нашлось людей, которые настаивали бы на необходимости учреждения в России новой государственности после того, как старая развалилась. Большинство же пошло на поводу у политиков, которые предпочли сохранить позднесоветские государственные структуры, что и предопределило во многом маршрут дальнейшего развития.
Видимо, пришло время, с учетом допущенных ошибок, начинать долгий и изнуряющий путь подготовки концепции новой трансформации, чтобы если не мы, то следующее поколение было бы готово к прорыву, который может начаться в любой момент. Он может начаться и раньше, чем мы думаем. Наши дискутанты из числа приближенных к Кремлю помогают нам уже тем, что довольно убедительно доказывают: в кругу власти могут выдвигаться лишь проекты укрепления нынешней системы, но там нет и не может быть стратегии ее трансформации - по той простой причине, что трансформировать ее никто не собирается. Значит тем, кто понимает стратегическую безальтернативность такой трансформации, надо не просто ждать ее, но и интеллектуально готовить. Нужно начинать, говоря иначе, новый круг жизни.
________________________________________________
Владимир ЛАПКИН,
старший научный сотрудник ИМЭМО РАН
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ: РОССИЙСКИЙ КАЗУС
ПОПЫТКА ИСТОРИЧЕСКОГО ОБОБЩЕНИЯ
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТСОВЕТСКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА В РОССИИ
ПРЕДСТОЯЩАЯ БИФУРКАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ
Сквозь всю многовековую историю России просматривается драматическая коллизия, сопровождающая попытки ее лидеров и возглавляемой ими государственной машины найти решение извечного вопроса российской политики. Вопроса, связанного с настоятельной потребностью преодолеть пространственное отчуждение Руси - Московии - России от ведущих центров мировой экономики, политики и культуры, сформировать устойчивые каналы взаимодействия с этими центрами и восприятия идущих от них цивилизующих импульсов.
Такими импульсами, поступающими из разных источников, пронизана вся наша история. Это и воспринятые от варягов и Царьграда первоосновы государственности, а от византийской церкви - религия и письменность. И - столетиями позже - наново усвоенные от Орды навыки государственного управления и военной организации. И вдохновлявшие российских императоров XVIII века на подвиги заимствования или ученичества (а порой и на откровенное малопродуктивное подражание) опыты Голландии и Пруссии. И, наконец, "самобытное" отечественное прочтение марксизма и неолиберализма, составившее идеологическую основу российских революций начала и конца XX столетия.
Однако продолжительность этих периодов, в течение которых сохранялись эффективные каналы восприятия цивилизующих импульсов, всякий раз оказывалась недостаточной для органического усвоения их фундаментального содержания. Более того, очень скоро в воспринимающей их "автохтонной" среде возбуждалась реакция отторжения, следствием чего надолго становились культурная изоляция и хозяйственная автаркия. Такая многократная повторяемость в России периодов устойчивого взаимодействия с ведущими мировыми центрами и периодов самоизоляции побуждает к выдвижению гипотезы о ритмах российской политической истории. Ритмах чередования периодов ее "раскрытия миру" и периодов самодостаточного"окукливания".
Попытка исторического обобщения
Речь едет о сложившемся в стране принципиально неустойчивом и чреватом катастрофами механизме циклического развития государства и общества. Механизме, характеризующемся чередованием полярных ориентаций: то - на ученичество и культурное заимствование у чужеземцев, а то - на самобытное, "с опорой на собственные силы" существование, убаюкиваемое мифами о собственной исключительности. Мифами, вариации которых простирались от "Третьего Рима" до "Третьего Интернационала".
Эффект цивилизующего внешнего воздействия всякий раз сильно варьировался, будучи зависимым от реального культурного потенциала той цивилизации, которая в данном случае выступала в качестве эталона, "образца" для подражания и заимствования. Характерно, что устойчивая ориентация России на Западную Европу, как мирового лидера, обозначилась, лишь начиная с реформ Петра I, т.е. с конца XVII века. До Петра в качестве образцов политического и культурного развития Руси - Московии фигурировали и Османская империя (XVI в.), и Золотая Орда (XIII - XIV вв.), и Византия (X - XII вв., а также отчасти XV в.), и Хазарский Каганат (IX - X вв.). При этом только в случае Византии X - XII столетий можно говорить, да и то с известной осторожностью, о том, что выбор Руси оказался сориентирован на реального мирового лидера той исторической эпохи. По-видимому, именно данное обстоятельство и определило столь поразительное соответствие Киевской Руси, особенно в период ее расцвета, современным ей образцам римско-европейской государственности. В остальных случаях вторичность воспринятых Русью - Россией институциональных форм и культурных стереотипов обусловила неорганичный характер российского развития, сориентированного на ложные и неадекватные своему времени цели. Поэтому нередко очередной рывок к цивилизации устремлял Россию в направлении, противоположном "магистральному", общемировому вектору эволюции.
Особо отметим, что этот парадоксальный российский эффект - ориентация на ложные цели развития - сохранился и после того, как страна необратимо интегрировалась в европейскую политику. Пожалуй, лишь Петру Великому гениальным образом удалось разобраться в хитросплетениях этой политики и сориентироваться на опыт наиболее перспективных ее центров - Англии и Голландии. В последующие исторические периоды России "не везло": ее лидеры предпочитали "уроки французского", "прусского", "германского", эти своего рода уроки любви-ненависти, с опаской и недоверием относясь к возможностям прагматического сближения с реальными мировыми лидерами: Великобританией XVIII - XIX веков, США - в конце XIX-го и XX-м столетиях, Японией - во второй половине XX-го - начале XXI века. По сути, правомерно говорить о пренебрежении их уникальным опытом хозяйственного и социально-политического обустройства.
Историческая обреченность России на решение фундаментальной проблемы освоения "внутренних пространств" варварской, неприобщенной к цивилизации Евразии, причем в условиях острого дефицита наличествующих у государства политических, хозяйственных и демографических ресурсов, определила своеобразную имперскую форму ее исторического развития. Тем же обусловливалась и особая роль государства, дисциплинирующего общество во имя геополитического "выживания", мобилизующего и монопольно распоряжающегося для этого всей совокупностью наличествующих общественных ресурсов.
Такую государственную форму точнее всего было бы назвать особого рода "вторичной империей". Потому что ее цивилизующая миссия по отношению к внутреннему и окружающему варварскому пространствам, проявлявшаяся в распространяемых ею вовне властных импульсах (империумах), была принципиально несамодостаточной. Как правило, она лишь транслировала, причем с большими упрощениями и искажениями, правовые, культурные и бытовые нормы ведущих мировых центров - таких, как Византия раннего Средневековья, Орда XIV-XV веков или Запад Нового времени. В историческом масштабе результатом этого становилось формирование специфически российских циклов освоения - посредством внешней и так называемой "внутренней" колонизации - пространств Евразии. Эти циклы представляют собой закономерные чередования периодов восприятия и освоения накопленного передовыми державами политического и социокультурного опыта и периодов его трансляции на контролируемое российской державой пространство. Или, говоря иначе, чередования фаз осваивающего иноземные новации "рывка" и самодостаточной "релаксации".
Отмечу принципиальную особенность двух этих полярных фаз российского развития, во многом определяющую специфику взаимодействия Руси - Московии - России с внешним миром в тот или иной период. Именно в фазе "рывка", т.е. интенсивного обучения и освоения чужого опыта автохтонные ритмы российского развития довлеют над ритмами мировыми. То есть, именно тогда, когда Россия приступает к обновлению собственных социально-политических институтов и принципов устройства жизни путем заимствований во внешнем, окружающем ее мире, формируется устойчивый "самобытный цикл" ее развития. Автохтонная ритмика обеспечивает преодоление внешней цикличности, навязываемой ритмикой развития господствующего мирового лидера. В такие периоды Россия, образно говоря, идет в ученичество к более успешным народам, но учиться их премудрости предпочитает исключительно по собственному "плану" и, главное, в своем собственном ритме. В определенном смысле фаза "рывка" представляет собою своего рода квинтэссенцию "догоняющего развития" и позволяет России вновь и вновь решать казалось бы неразрешимую задачу: сохранять и воспроизводить традиционные формы властных отношений (так называемого самовластья) и, вместе с тем, эффективно осваивать инновационный инструментарий, обеспечивающий конкурентоспособность российской власти в противостоянии с сопредельными центрами силы (как правило, посредством пресловутой стратегии "асимметричного ответа").
Напротив, в "фазе релаксации", следующей за фазой "рывка", в российском историческом движении наблюдается своего рода затухание "собственных колебаний" и стремления к самобытному прочтению чужеземных премудростей. В развитии страны начинают отчетливо проявляться ведущие общемировые ритмы. Усвоив на предшествующем этапе новые формы политического устройства, прежде всего формы государственного правления и контроля над обществом, Россия (точнее, ее власть) затем на длительное время "успокаивается", теряет свою былую "пассионарность" и трансформирует то, что прежде было полем отчаянных социально-политических экспериментов, в нечто священно-неприкосновенное.
К примеру, новации эпохи петровских и екатерининских преобразований XVIII века впоследствии (со времен Павла I) надолго, вплоть до правления Александра III, сменились их неспешным "перевариванием". Освоенные прежде формы - такие, например, как русифицированный вариант прусской модели государственной бюрократии и помещичье-крепостнического уклада, - становятся с конца XVIII столетия на длительное время доминантой и "идеалтипическим" (по Максу Веберу) ядром новой модели российской государственности. Можно сказать, что они становятся своего рода "alter ego" российского самодержавия. При этом происходит медленное разложение элиты, теряющей способность вырабатывать новые формы политической организации. Страна обретает неожиданную глухоту к поступающим извне импульсам. Единственным и все более одиноким, все более социально изолированным субъектом политических изменений в стране становится в этот период государство ("единственный европеец", а в соответствующие периоды прошлого - "единственный золотоордынец", "единственный царьградец"), олицетворяющее тот внешний образец, чья модифицированная копия определяет в данную эпоху внешний облик политического строя России.
Эта "фаза релаксации", в ходе которой происходила адаптация навязанного Петром I порядка к социокультурным устоям Империи, завершилась аграрным, финансовым и политическим кризисом 1880-х годов, обозначившим новое колоссальное отставание России от ее "стратегических партнеров" на Западе и ввергнувшим страну в очередную фазу "рывка", продолжающегося и по сию пору. Структурно эта фаза нового (на сей раз завершающего) российского "рывка" может быть детально сопоставлена с предшествующим петровско-екатерининским "рывком", начало которого восходит к допетровским десятилетиям, к середине XVII века. Для наглядности в приводимой ниже таблице представлены в сопоставлении ключевые даты петровско-екатерининского и нынешнего, завершающего "рывков", а также составляющих их периодов. Даты эти достаточно красноречивы (обратите внимание на длительность периодов) и говорят сами за себя.
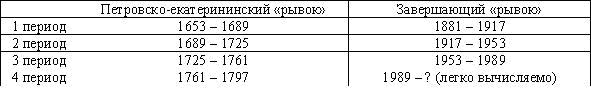
Рассмотрим логику последовательной смены соответствующих периодов на примере нынешнего завершающего "рывка". Называю его завершающим, поскольку ему суждено исчерпать ресурсы традиционно-имперского механизма российского самовластья и - в итоге - поставить страну перед неотвратимой дилеммой. Либо окончательная и безусловная интеграция в сообщество современных государств - подобно тому, как, к примеру, это произошло с Германией после Второй мировой войны, либо полный и столь же окончательный государственный распад, подобный краху Византии в 1453 году. Симптоматично, кстати, что "византийские" сюжеты стали одной из центральных тематических линий нашей дискуссии (см. тексты С.Маркова, В.Шейниса, А.Кара-Мурзы, В.Межуева, И.Клямкина, В.Иноземцева, А.Янова, И.Г.Яковенко).
Первый (начальный) период завершающего "рывка" характеризуется попытками имплантации новейших форм западного экономического и военно-технического прогресса непосредственно в ткань традиционной российской жизни. Эти попытки закономерно приводят к еще большему, теперь уже катастрофическому обострению социального кризиса и последующему перевороту всего строя российской жизни в 1917 году, императивом которого была необходимость приспособить Империю к поддержанию этих новейших форм в относительно исправном состоянии.
Так Россия вступает во второй период завершающего "рывка", в ленинско-сталинскую эпоху "бури и натиска", структурно во многом аналогичную эпохе петровской. Посредством решительного и беспощадного закрепощения общества и идеологически предписанного всенародного самоотречения стране удается решить двуединую задачу: достичь нового экономического и военно-стратегического паритета с Западом и сформировать новое привилегированное служилое сословие, способное такой паритет поддерживать.
Смерть "вождя и учителя" (И.Сталина) в 1953 году, подобно смерти Петра в 1725-м, обозначившая вступление в третий период, круто меняет представления о смысле и результатах героических усилий предшествующей эпохи. Плоды трудов бескорыстного деспота - ревнителя государственных интересов - достаются пигмеям, утратившим представления о замысле и целях эпохи и чем далее, тем более увлекаемым стихией своих частных, сиюминутных интересов. Весь данный период уходит на медленное "пробуждение" этого нового служилого сословия, которое (пробуждение) должно охватить по крайней мере основную его (сословия) часть, прежде чем оно станет способным к обретению "вольности". При всей кажущейся исторической бессмыслице этого периода, именно в нем происходит крайне важная метаморфоза: верховная власть Империи оказывается во все большей зависимости от "новой элиты", которая постепенно обретает практически "автономные" источники индивидуального благополучия и всячески стремится закрепить их в неотъемлемой собственности.
Наконец, Россия вступает в последний, четвертый период "рывка", в предыдущий раз получивший наименование "екатерининской эпохи", а теперь - "эпохи рынка и демократии". В этот период цели развития страны требуют политического решения, совмещающего казалось бы несовместимое. А именно - формирование механизма реализации имущественных интересов новых элит с одновременным упрочением автократической политической власти. Этот исторический парадокс вновь разрешается тем же способом, что и во времена Екатерины II. Подобно гвардии и дворянству второй половины ХVIII века, новое служилое сословие (позднесоветская номенклатура), уже, казалось бы, претендующее из подчиненного инструмента государства стать "сословием для себя", способствует утверждению в стране режима, который после ряда внутренних метаморфоз начинает последовательно восстанавливать политическую монополию верховной власти. В целом этот период, в середине которого мы сегодня пребываем, характеризуется сочетанием двух парадоксально сопряженных тенденций: расцвета "вольности" элиты и укрепления увенчанной автократором государственной бюрократической иерархии, отстраняющей общество от власти и подменяющей собой все прочие социальные институты.
Во избежание недоразумений поясню, почему я до сих пор избегал характеризовать развитие России в ХХ столетии термином "модернизация". Дело в том, что большую часть этого периода страна прошла, акцентируя свои усилия исключительно на индустриальных аспектах модернизации - форсировании урбанизации и ликвидации традиционных аграрных укладов, развитии крупной промышленности и необходимой ей социальной инфраструктуры и т.п. Что же касается социально-политических и ценностно-культурных аспектов преобразований, то они игнорировались. Более того, фундаментальные предпосылки модернизации в этих важнейших сферах общественной жизни порой даже разрушались. Особенность этой форсированной модернизации в том, что она представляла и по-прежнему еще представляет собой наиболее яркий пример последовательной реализации стратегии политического и социально-экономического развития, альтернативной той, которая в современном мире господствует.
И, тем не менее, характеризуясь качествами, столь, казалось бы, неадекватными истинной сущности модернизации, это развитие являлось модернизирующим по своей функции, по своему историческому предназначению. Оно вполне соответствовало императиву, диктуемому России, внешним миром и предопределившему с конца XIX столетия ее место и роль в системе мировых центров политической и экономической силы. Пребывая в этой своей ролевой функции глобального системного антагониста мировому лидеру (США), Россия вынуждена была - под угрозой национального и социокультурного уничтожения - решать проблему собственного приобщения к Современности. Такова суть нашей эволюционной задачи и сегодня, но процесс нашего приготовления к ее окончательному решению еще не завершен.
В данный момент Россия находится, пожалуй, в наиболее драматическом положении, когда гигантский масштаб предстоящей задачи едва ли соизмерим со всё еще сохраняющимися у нее ресурсами и возможностями. Исход этой исторической коллизии отнюдь не предрешен. И чтобы оценить конкретные альтернативы российского политического развития, есть смысл с метаисторического уровня абстракции спуститься на уровень происходящих на наших глазах политических трансформаций сегодняшнего дня и обратиться к анализу того особенного, уникального содержания, которым характеризуется текущая эпоха эволюции российской государственности.
Как было сказано выше, мы находимся посредине последнего, четвертого периода завершающего "рывка", неотвратимо влекущего Россию к окончательному краху Империи и самой имперской парадигмы развития. И, вместе с тем, открывающего перед ней - наконец-то! - возможность вступления в сообщество модернизированных государств. То ли - посредством полного государственного краха и перехода на неопределенное время к режиму "внешнего управления". То ли - посредством в той или иной мере цивилизованного отторжения страной своего несовременного прошлого. Конкретный путь решения этой проблемы зависит от нашего сегодняшнего и завтрашнего политического благоразумия.
Некоторые особенности постсоветского политического режима в России
В последние годы в России происходят важные политико-институциональные трансформации. Конституция 1993 года оказалась эффективнейшим инструментом стабилизации российского политического процесса, позволяющим его ключевым акторам, не выходя за пределы правового поля, в самом широком диапазоне менять правила политической игры. Заложенные в Основном Законе возможности отчетливо проявились в 2004 - 2006 годах, ознаменовавшихся глубокой перестройкой российской политической системы, радикально преобразовавшей содержательное наполнение и функциональные возможности основных политических институтов, партийной системы, отношений между центром и регионами. По сути дела, речь идет об очередном этапе адаптации исходного персоналистского режима[1], порожденного, как и в ряде других постсоветских государств, "беловежским" механизмом упразднения СССР, к двум структурным ограничителям. С одной стороны, к заимствованной у Запада институциональной демократии, а с другой - к реальным политическим практикам постсоветского общества, его политической культуре, ценностям, присущим ему механизмам политической мобилизации.
Но начался этот процесс гораздо раньше. Уже сам факт принятия в 1993 году новой Конституции, закрепившей доминирование института президента, означал, что изначальный конфликт персоналистской власти и институциональных реликтов советской эпохи (Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ) получил весьма перспективное разрешение. Перспективное с точки зрения интересов персоналистской власти и устойчивости выстраиваемой на ее основе политической системы.
В результате уже к середине 1990-х годов в России сформировался режим соревновательной олигархии (по Р.Далю), консолидируемый президентской властью. Последняя имела возможность монопольно распоряжаться политическими ресурсами страны и при необходимости делегировать их другим властным институтам в рамках формально выстроенной системы разделения властей. Более подробно я говорил об этом в выступлении за круглым столом, предварившим настоящую дискуссию. Факт такой монополии получил убедительное подтверждение на всех выборах федерального уровня. Они надежно обеспечивали политическую преемственность персоналистского режима и в сущности проходили по единому сценарию, имеющему две "технические" модификации: одна для президентских выборов, другая - для парламентских.
Президентские выборы 1996, 2000 и 2004 годов были выборами с назначением "преемника", которому и передавались ресурсы персоналистской власти. В 1996 и 2004 годах "преемником" был сам действующий президент; он, так сказать, сам себя назначал. В преддверии выборов 2000 года "преемником" стало новое лицо, и уже в августе 1999-го в его распоряжение фактически (и безоговорочно) были переданы все властные ресурсы.
В случае же парламентских выборов, которые всегда предшествовали президентским, сложилась иная практика. В данном случае глава государства, монопольно распоряжавшийся реальным политическим ресурсом страны, делегировал определенную часть этого ресурса так называемой "партии власти" (всякий раз новой или радикально обновленной), выступавшей проводником политики президента. Напомню, что впервые экспериментальная "протопартия власти" - "Выбор России" - была создана накануне декабрьских выборов 1993 года. Но она не смогла эффективно воспользоваться делегированным ей ресурсом и в роли реально функционирующей "партии власти" себя практически не проявила. В 1995 и 1999 годах "партии власти" создавались под действующих премьеров: НДР - под В.Черномырдина, а "Единство" - под В.Путина. Примечательно, что когда в начале 1998 года премьер - В.Черномырдин - без санкции действующего главы государства открыто обозначил свои президентские амбиции, грубо нарушив тем самым неписаные правила персоналистской политики, в отставку были отправлены и он сам, и созданная под него "партия". Что касается "Единства", то оно было создано под Путина-премьера, который одновременно был уже и "преемником".
Правда, на выборах 1999 года конкурировали две "партии власти". В ожидании неминуемой смены первого лица государства часть политической и хозяйственной элиты страны, сохранявшая еще определенный автономный контроль над соответствующими ресурсами и отчаянно пытавшаяся не допустить нежелательного для себя развития событий, объединилась в блок "Отечество - Вся Россия", одним из лидеров которого стал экс-премьер Е.Примаков. Однако эта "девиация" лишь подтвердила общее правило: победу, как известно, одержала "партия поддержки преемника", получившая персоналистский ресурс. А сам этот "преемник", выбранный действующим президентом Б.Ельциным и ранее практически не известный подавляющему большинству россиян, всего несколько месяцев спустя стал кумиром страны и обладателем запредельно высокого (и, как позднее выяснилось, аномально устойчивого) рейтинга.
С упрочением режима В.Путина ситуация, однако, несколько изменилась. Новая, интегрированная "партия власти" - "Единая Россия" - пошла на выборы 2003 года не как "партия премьера", а как "партия президента". Более того, премьера М.Касьянова, заподозренного в "несанкционированных" президентских амбициях, отправили в отставку сразу после парламентских выборов. Но с вступлением в электоральный цикл 2007 - 2008 годов и в ожидании новой смены первого лица государства, мы наблюдаем то, что уже наблюдали в 1999 -м, - раздвоение (раскол) "партии власти" и резкую поляризацию политического класса. У "Единой России" появляется конкурент - "Справедливая Россия", причем, в отличие от 1999 года, конкурент санкционированный.
Сегодня, как и ранее, делегирование персоналистского властного ресурса "партии власти" в канун парламентских выборов является прерогативой и инструментом политики самого президента. Вместе с тем ввиду предстоящей смены первого лица и наметившегося раздвоения "партии власти" многими прогнозируется жесткая взаимообусловленность исхода парламентских выборов и решения вопроса о кандидатуре "преемника". Тем самым предопределенность сохранения персоналистского режима после марта 2008 года ставится под сомнение. Какие же варианты при этом возникают и насколько соответствуют они тому периоду "рывка", в котором находится сегодня страна?
Предстоящая бифуркация российской политической эволюции
Участник дискуссии Владимир Гельман в качестве ключевой российской дилеммы 2007-2008 годов рассматривает "выбор <…> только между двумя недемократическими моделями: персоналистской (при этом не важно, будет ли нынешний президент фактически находиться у руля власти после истечения нынешнего срока или нет) и моделью с доминирующей партией. Вариант мирной трансформации нынешнего режима в подобие режима конкурентной демократии, - подчеркивает аналитик, - на сегодняшний день в повестке дня российского политического класса не стоит". С заключительным тезисом нельзя не согласиться. Однако и относительно открывающихся возможностей, и относительно их политического содержания хотелось бы внести некоторые коррективы.
Поощряемое "с самого верха" появление и продвижение "Справедливой России", альтернативной "партии власти", по существу торпедирует возможность достижения преемственности власти посредством формирования доминирующей партии, свидетельствуя о выборе инициаторов этого политического проекта в пользу персоналистской стратегии. Ведь практика российской внутриэлитной предвыборной борьбы показывает, что до решения основного вопроса - о персоне нового лидера - никакого согласия между элитными группами, вошедшими в состояние конфронтации, достигнуто быть не может. Тем более, согласия по ключевому вопросу о "выдвижении единого кандидата".
Тем не менее традиционный предвыборный "раскол" российской власти в текущем электоральном цикле действительно отражает конфликт и конкуренцию двух стратегий властно-политической консолидации страны. Первая проявляется в стремлении "Единой России" к всеобъемлющему контролю над политической жизнью, в том числе и над процессом трансляции верховной власти, что в перспективе с очевидностью ведет к формированию режима доминирующей партии. Вторая - в стремлении, воплощаемом в деятельности "Справедливой России", торпедировать "монополистские" планы "Единой России" и стоящих за ней функционеров из Администрации президента, нейтрализовать претензии "единороссов" на политическое единовластие в ситуации президентских выборов 2008 года. Реализация этой второй стратегии позволяет персонализму сохранить политическую инициативу и контроль за происходящими в стране политическими процессами и, стало быть, транслировать себя по крайней мере еще на один электоральный цикл.
Вместе с тем, сама постановка вопроса о возможности самоисчерпания персонализма и переходе к режиму "доминирующей партии" говорит о том, что институционально-политические трансформации 1999-2007 годов не только усиливали персоналистский ресурс президентской власти, но и - в процессе укрепления властной вертикали - формировали необходимые предпосылки консолидации обновленной российской бюрократии в структурах "протодоминирующей партии". Сегодня между нею и реальной властью над страной - всего лишь авторитет действующего президента и эфемерные царистско-самодержавные архетипы, сохраняющиеся в традиционалистских пластах массового сознания. Это, казалось бы, и есть реальный выбор 2008 года. Выбор между просвещенной автократией, по критериям современной эпохи весьма "неприличной", и новым режимом "коллективного руководства" нынешних "верных путинцев", весь "либерально-демократический" потенциал которых, в случае их победы, уйдет в адресованную Западу риторику. Отмечу a propose, что само наличие такого выбора является серьезным вызовом теоретическим построениям Михаила Краснова, поскольку констатирует как данность претензии "Единой России" на реализацию "незапланированного" им варианта упразднения персоналистского режима, оставаясь при этом в формальных границах действующей конституции.
Серьезный успех "Единой России" на парламентских выборах открывает ей не только возможность провести собственного кандидата в преемники на пост президента, ресурсы которого, как нетрудно предвидеть, будут ослаблены целенаправленными усилиями обеих сторон. Она сможет, в качестве дополнительной подстраховки, закрепить за собой, как за партией, победившей на выборах, и право формировать правительство и назначать премьера. Такое сочетание ключевых политических ресурсов позволит в кратчайшие сроки поставить крест на всякого рода попытках институционализации статусной позиции "лидера нации" и резко ослабить возможности влияния нынешнего, а после выборов уже бывшего президента на политический курс. Короче говоря, такое развитие событий создаст принципиально новую, в сравнении с 1999-2000 годами, ситуацию. Механизм трансляции персонализма окажется разрушенным. Новый президент (даже если, будучи выдвиженцем "Единой России", он рискнет вести свою собственную игру), будет лишен возможности выйти из-под опеки "доминирующей партии" и начать вновь концентрировать "под себя" ресурсы персонализма.
Сказанное позволяет утверждать, что "выбор между двумя недемократическими моделями" в реальности выглядит не совсем так, как его трактует В.Гельман. Думаю, не так уж безразлично, "будет ли нынешний президент фактически находиться у руля власти после истечения нынешнего срока или нет". Потому что именно в зависимости от того, "будет или не будет", в значительной степени определятся и политические возможности персонализма, и его тип. С этой точки зрения, я рассматривал бы не один, а, по меньшей мере, три варианта его трансляции.
Первый - преодоление конституционных ограничений на третий президентский срок. Формально этот вариант уже не реализуем, но по факту он обладает огромным потенциалом популистской поддержки. В данном случае, вопреки навязчиво упоминаемым конституционным ограничениям, действующий президент идет на выборы, избирается и продолжает управлять страной и "всем хозяйством". Все внутренние конфликты прекращаются, всем все понятно, риски минимальны, порядок торжествует. Издержки же связаны прежде всего с непоправимым (а может быть, со временем и поправимым) ущербом для имиджа президента и страны, с определенными внешнеполитическими осложнениями и чисто умозрительной (в нынешней и без того "запущенной" ситуации) проблемой прерывания возникшей вроде бы традиции уважения к закону и конституции при решении вопроса о власти в России.
Вторая, более мягкая версия трансляции персонализма учитывает необходимость соблюдения формальных конституционных ограничений, но исходит при этом из примата "преемственности власти" и многократно заявленного с самой высокой трибуны стремления уйти лишь с должности президента, но не с поста "лидера страны". Возникает, однако, вопрос, каким образом столь тонкая операция может быть осуществлена и каковы неизбежные издержки, в том числе и в области конституционно-правовой, которыми будет сопровождаться это властно-институциональное сальто-мортале. Ведь президента, когда им станет преемник, придется лишить традиционно присущего ему ресурса властного лидерства и наделить таковым некую иную статусную позицию, которую займет нынешний президент, уйдя в отставку. Думаю, что издержки будут не просто сопоставимыми, но намного превосходящими издержки первого варианта. Да, международный резонанс и удар по репутации экс-президента будут, возможно, в данном случае более щадящими. Но во всем том, что касается порядка и управляемости во внутренней политике, а тем более - эффекта, произведенного таким "трюком" на общественное сознание, политическую культуру и институционально-правовые традиции страны, разрушения будут колоссальными. Впрочем, об этом в ходе дискуссии уже говорилось Лилией Шевцовой.
Наконец, третья версия, предполагающая формальное осуществление трансляции персонализма под эгидой реальной (без кавычек) Партии власти (Администрация президента + "Единая Россия") [2]. Полагаю, что персонализм в этом случае будет, так сказать, чисто номинальным. Ведь с точки зрения корпоративных интересов российской бюрократии лишь режим "доминирующей партии" остается единственно приемлемым, пробуждая к тому же ностальгические воспоминания о "золотом веке" послесталинской КПСС. Только такой режим представляется ей гарантирующим ее незыблемое положение главенствующей силы, контролирующей все властно-собственнические ресурсы страны. А нынешний электоральный цикл оказывается счастливой возможностью осуществить вожделенный переход от персонализма к режиму доминирующей партии.
Но нам вряд ли стоит принимать слишком близко к сердцу интересы и чаяния российской властной корпорации. Желательно оценить стратегическую реализуемость и стратегические последствия реализации того или иного варианта.
В связи с этим есть повод вернуться к историософской схеме, кратко изложенной выше. В фазе "рывка" лишь в третьем периоде, т.е. при ослаблении автократии и одновременном усилении "автономии" элиты, режим "доминирующей партии" оказывался востребован и относительно эффективен в течение определенного времени. Однако в целом стратегические последствия политики такого режима следует признать плачевными во всех отношениях. Причем в обеих его версиях, имевших место в 1964-1981 и 1985-1991 годах.
В нынешний же четвертый, заключительный период тем более востребовано персональное лидерство, а стремление к формированию режима "доминирующей партии" уже сегодня с этой точки зрения следует рассматривать как своего рода исторический фальстарт. Такое "преодоление персонализма" - совсем не то, что нам нужно. Не забудем, что олицетворением аналогичного периода петровско-екатерининского "рывка" была Екатерина Великая, при которой (в отличие от царствования первой российской императрицы Екатерины I), никакого "коллективного управления" страною (по крайней мере после подавления пугачевщины) не практиковалось.
В сегодняшних условиях только автократический режим способен решить двуединую задачу завершающего этапа нынешнего "рывка": до конца реализовать потенциал автономной от общества власти, разложить тем самым основы автократии (т.е. самое себя) и завершить долгую историю ученичества/заимствования, сформировав, наконец, эффективные и устойчивые каналы взаимодействия с современной глобальной цивилизацией. Как эпоха Екатерины II подготовила относительно свободное поколение дворянской молодежи, сумевшее выстоять и "выжить" вопреки усилиям Павла I, так и сейчас России необходимо вырастить относительно свободное поколение обеспеченных людей, способных сформировать "из себя" действительно эффективный и ответственный политический класс страны.
________________
1 В понимании персонализма я склонен солидаризоваться с М.Красновым. Напомню, что главным индикатором институционального персонализма он считает "не объем президентских полномочий", а "практически полное отсутствие зависимости реальной политики от результатов парламентских выборов", а секрет его устойчивости усматривает "в конституционной конструкции, а не в особенностях личности лидера страны и не в особенностях нашего политического мышления". Автор правильно, по-моему, отмечает, что "институт российского Президента так конституционно обустроен, что он объективно понуждается вести политическую борьбу на стороне одной из политических сил <…> т.е. из субъекта policy Президент РФ превращается в субъекта politics. Таким образом, "арбитр" становится одновременно и "игроком"".
2 Характерно,
что все функционеры Администрации президента, равно как и сам президент, не
члены "Единой России". Так что аналогии с Ласаро Карденасом и его
соратниками, создавшими в свое время "доминирующую партию" в Мексике,
тут не проходят. Скорее, можно говорить о "Неизвестных Отцах" с "Обитаемого
острова" братьев Стругацких.
________________________________________________